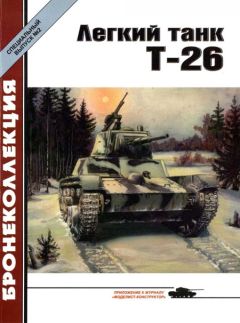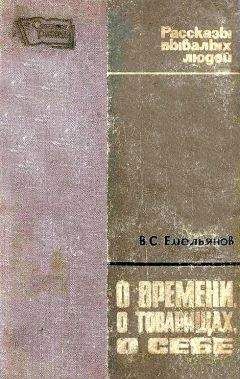Сюзанн Варга - Лопе де Вега
Находясь на краю пропасти, которую Лопе сам для себя создал, не имея сил отказаться от любви, он цепляется за дела и слова добродетели. «Я люблю ее, — писал он герцогу, — так, как любил бы монахиню, и чтобы с ней поговорить, я выковываю непреодолимые препятствия, гораздо более непреодолимые, чем монастырские решетки». Он даже поверял герцогу свои мысли о любви почти небесной, которую он будет рад воспевать в своих платонических творениях. Так родились многочисленные сонеты, в которых он, следуя поэтическому обычаю того времени, представлял себя в виде птицы, попавшей в ловушку:
Я похож на птицу, протестующую против манка,
Когда она, попав на дереве в ловушку,
Бьется в жадной смоле на твердой ветке,
Выщипывая перья и мечтая о свободе.
И чем более она бьется, тем более запутывается.
Он старательно будет изображать платоническую влюбленность, чтобы сохранить свою тюрьму, чтобы остаться жертвой астрального совпадения с Венерой. Он будет далек от мысли вести борьбу с небесным противником, как это будут делать герои Кальдерона, нет, он отдастся на его милость: «Если человек рожден для того, чтобы одерживать победы над звездами, то я не таков, я сдаюсь на их милость, позволяя им одолеть меня, чтобы пережить ту достойную и сладкую любовь, каковой является моя любовь».
В этом принятии судьбы, предначертанной ему небом, природы, ему даденной, Лопе способствовал драматизации своего существования, в котором он нуждался. Он воспринимал свою природу как приговоренную к смешению самых ярких противоречий, а потому превращавшую его в великого грешника, в идеальный объект сострадания и прощения Господнего. «Мне кажется, Господи, что я был рожден для того, чтобы Ты мог испытывать на мне Твое сострадание и изливать на меня Твое милосердие». Именно это подтверждает персонаж одной из его комедий, некий Саладо из «Побежденного победителя», который отвечает в таких выражениях тем, кто подвергает его осуждению:
Так как причиной греха является такая красота,
То умный человек, желая осудить его устами,
Сердцем своим может его лишь простить.
В сознании Лопе любовь к Амарилис представляется как настоятельно необходимый и совершенно четкий закон, самый главный из всех законов, правящих миром, — любовь, свободная от всяческих ограничений и искажений, навязываемых обществом, будет торжествовать победу в своей совершенной и полной чистоте. А потому Лопе мог позволить себе воспламениться и разразиться потоком драгоценных поэтических строк, чтобы восславить все архетипы красоты и все парадигмы достоинств души и рассудка:
Вначале ее красота была пророчеством,
Образцом бриллианта чистой воды.
Она училась быть галантной и учтивой,
Но без надменности и тщетной суеты,
Побеждая разумной осторожностью
Высокомерие, что сопутствует элегантности. […]
Ее пышная шевелюра
Составляла лес кудрей,
Которому позавидовал бы Амур.
Когда же распускала она свои власы,
Чтоб расчесать их, то получался
Превосходный балдахин, поражавший блеском.
Два живых изумруда ее очей
Говорили, обращаясь к душе и услаждая слух.
Но именно в пасторали Лопе подчеркнул первые образы проявлений этой новой любви. Поэтическими знаками и вехами усеяно все его творчество, и некоторые из них мы находим в окончательной версии «Доротеи»: «Когда ты выходишь в маленьких башмачках, говорили мне цветы, ты по ним проходишь, не ломая их, ибо твои ножки так малы». Или вот еще пример: «Твои маленькие расшитые золотом башмачки без пяток, обшитые белым шнуром, обнимают ножки, которые могли бы быть ручками Амура или двумя букетами лилий». Эти повторяющиеся образы, связанные с Амарилис, оживляли в Лопе с новой силой то необычайное, синестетическое (то есть двойственное) влечение, которое она породила в нем с их первой встречи. Лопе часто будет вспоминать легкую поступь этой дамы, еле слышный шорох ее шагов, гармонировавший с шелестом ее платья, и из всего этого рождалась музыка, оставляющая след в его сердце. По тому, как Лопе постоянно возвращался к своим слуховым и визуальным впечатлениям, можно прийти к выводу, что первое волнение Лопе испытал еще до того, как они с Амарилис встретились в «поэтическом саду» в Мадриде. Со странным постоянством Лопе упоминал о том, как мимолетный случай дал ему счастье сначала услышать, а затем и увидеть прелестную и незабываемую сценку. Этот эпизод был своеобразным разоблачительным признанием Лопе, уже ставшего священником. Он любил прогуливаться в одиночестве по берегам Мансанареса на окраине Мадрида, и однажды, присев у куста, он вдруг услышал странный шум и внезапно увидел купающуюся Амарилис, точно так, как Актеон увидел купающуюся Диану. Она была в нижних юбках, которые тихонько шелестели, когда она их слегка приподнимала; ноги ее были босы, и она, «прелестно, с великим изяществом резвилась, подпрыгивая, в водах ручья». Тогда, подобно Актеону, не дав себе времени поразмыслить над тем, что он делает, Лопе мгновенно оказался рядом, подвергая опасности свою душу и жизнь.
С того момента любовь наполняла его поэтическое творчество, поток коего увеличился едва ли не в десять раз: сонеты, романсы, баллады, баркаролы воспевали Амарилис. К ним впоследствии прибавились поэтические «хроники», такие как эклога под названием «Цирцея», а также драматическая проза, то есть роман «Доротея», переработанный под влиянием образа новой возлюбленной. Объединенные вместе, они составляют удивительную хронологию различных фактов, позволяющих нам следить за развитием этой любовной истории шаг за шагом.
Загадка разгаданаКак это ни странно, но постоянно повторяющиеся в поэзии Лопе намеки, постоянное присутствие в его поэзии этой особенной женской фигуры, трепещущей от переполняющей ее жизненной силы, узнаваемой в качестве реально существующей женщины, несмотря на связанные с ней многочисленные образы, созданные воображением, не породили никаких подозрений у литературоведов, всегда держащихся настороже. Более трех столетий Амарилис проходила незамеченной перед взорами исследователей. В ней видели «Энтелехию», то есть чистый плод воображения Лопе, плод его неистощимого творческого начала. Под видом вымысла, явно обладавшего живой жизненной силой и от того столь трепетного, никто не различил реальной женщины. Огромное количество женских поэтических образов, родившихся под воздействием ее образа, образов, бросавших вызов миру, быть может, и было гарантией сохранения тайны. От рассказов о страстях Лопе, реальных и воспринимаемых как реальные его современниками, не осталось ничего. Этого вполне достаточно, чтобы доказать, что за исключением некоторых его завистливых и злобных собратьев по перу они никого не беспокоили и не смущали и что в конце концов отступления поэта от морали были прощены его временем, видевшим, как эти влюбленности зарождались. После смерти Лопе современники сочли, что было бы дурно говорить о них, и его влюбленности поглотила пропасть забвения. Когда романтики вновь открыли Лопе, желая обновить театр, они увидели лишь его поразительные качества как автора драматических произведений. Критики же того времени, охваченные чрезмерной боязливостью, присущей пуританизму, захватившему тогда всю Европу, окутали покрывалом восхищения и творчество Лопе, и его якобы образцовую жизнь.