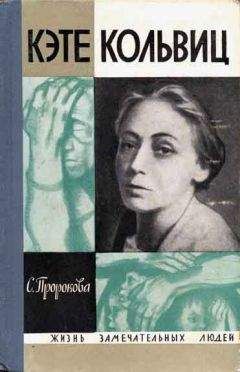Софья Пророкова - Репин
То, что всякий здравомыслящий человек воспринимал как анекдот, в «Пенатах» выдавалось за чистейшую правду.
Первое время Репин еще пытался сопротивляться, не давал опутывать себя липкой паутине лжи, какую искусно плела его дочь. Он читал Ленина, Луначарского, новые произведения советских писателей.
Но когда жизнь стремительно катится к восьмидесятилетию, трудно быть особенно стойким.
Дни были сотканы из нелепых слухов: «Сошел с ума Чуковский!», «Выброшены из музеев все картины Репина, уничтожено все им созданное, большевикам не нужно его искусство!»
А тем временем правительство молодого Советского государства в дни тяжелой борьбы с экономической разрухой и контрреволюцией проявляло неустанную заботу о культуре и искусстве.
Через неделю после Октябрьской революции был опубликован приказ Народного комиссара просвещения Луначарского, посвященный вопросам охраны памятников искусства и архитектуры, описи дворцового имущества.
Здесь же объявлялась благодарность тем служащим Зимнего дворца, которые в ночь с 25 на 26 октября 1917 года, оставаясь на своих постах, охраняли народные сокровища Зимнего дворца.
При Наркомпросе был создан Отдел изобразительных искусств, а также Отдел музеев и охраны памятников искусства и старины.
В июне 1918 года был опубликован декрет, подписанный Лениным, о национализации Третьяковской галереи.
В апреле 1918 года декретом Совнаркома была упразднена Академия художеств как официальный художественный центр, диктующий свои законы и вкусы в искусстве. Высшее художественное училище при ней было преобразовано в Свободные художественные мастерские.
Государство позаботилось о том, чтобы художники были обеспечены мастерскими и специальными пайками.
Совершенно иным стал труд художника. В. И. Ленин сказал об этом:
«В обществе, базирующемся на частной собственности, художник производит товары для рынка, он нуждается в покупателях. Наша революция освободила художников от гнета этих весьма прозаических условий. Она превратила советское государство в их защитника и заказчика»[2].
И все это происходило тогда, когда господа белоэмигранты вопили о вандализме большевиков, о гибели русской культуры.
Дом в «Пенатах» наполнялся людьми, единственное назначение которых пачкать, чернить все, что доносится из-за рубежа. Гостем принимают, почетом окружают белогвардейца, кирилловца офицера Максимова, который пользовался особым расположением Веры Ильиничны, все еще ходившей в невестах.
Пуще всего она, да и все живущие в «Пенатах» приживалы, никчемные, беспомощные люди, боялись, как бы Репина не потянуло в родные края, к друзьям.
Чтобы не тянуло, ему подносится сплетня о том, что расстрелян его лучший друг Поленов, а с ним и Нестеров, В. Васнецов. Сокрушенный потерей близких людей, старый художник служит в куоккальской церкви панихиду по невинно убиенным. Он, который сорок лет не бывал в церкви, поет теперь на клиросе и простаивает самую долгую службу, не зная устали.
Вдруг — о радость! — Репину попадается обрывок газеты «Правда», из которого он узнает, что маститые художники В. Поленов и В. Васнецов присутствовали на открытии выставки, а Нестеров по болезни быть не мог и прислал письмо-приветствие.
Взрыв негодования. Репин неистовствует. А Вера Ильинична знает, что отец отходчив и гнев его недолог, он простит ей сплетню.
Репин служит в церкви молебен за здравие тех, кого он недавно поминал на панихиде.
Поленов — ровесник и друг Репина, которого он заживо похоронил, — жил деятельно, посвятив свой талант созданию народного театра. Он восторженно принял все преобразования и еще 16 марта 1917 года писал Л. В. Кандаурову:
«То, о чем мечтали лучшие люди многих поколений, за что они шли в ссылку, на каторгу, на смерть, совершилось. Россия в настоящую минуту охвачена великой радостью воскресения».
Родина наградила Поленова званием народного художника. Она чтила и лелеяла его талант, гордилась им.
До Репина в искаженном виде доходила и та борьба на эстетическом фронте, которая происходила у нас в первые годы революции.
В Отделе изобразительных искусств Наркомпроса ведущее положение заняли формалисты, которые зачеркивали все художественное наследие и видели революционность искусства лишь в совершенно новых формалистических исканиях.
То, к чему призывали леваки в искусстве, Репину выдавалось за уже совершенное. И очень легко было убедить его в том, что все созданное им эти лихие новаторы отправляли на свалку: формалисты и модернисты всех мастей в России не первый день вели борьбу против Репина.
И теперь, дорвавшись до руководящего положения на изофронте, они собирались рассчитаться со всем классическим наследием русского искусства и готовы были выбросить из музеев даже такого гиганта реализма, как Репин.
Этого не случилось, но призывы формалистов, увеличенные до грандиозных размеров, доходили до старого художника и раздирали его давно не заживающие раны.
Когда в 1922 году Репин получил письмо хранителя Русского музея Нерадовского, он не поверил глазам своим:
«Ваше письмо меня очень обрадовало. Оно с того берега, о котором думается только со страхом и беспокойством».
Оказывается, Русский музей не только открыт и картины Репина живут в нем, но они даже заново повешены. Как захотелось ему еще хоть раз взглянуть на свои вещи на новых местах!
Но разве выпустят его родичи и подлипалы из своих цепких лап?
Скульптор И. Гинцбург, вторично посетивший Репина в 1930 году, рассказал в своих воспоминаниях о той обстановке, в которой доживал великий художник. Он вновь встретил там белогвардейца Максимова. «Здравия желаю, ваше благородие! — надменно вскрикнул этот кирилловец, увидев меня. — Вас ждут».
Он был главным советчиком Веры Ильиничны по всем делам, и не без его участия бесценное художественное наследие Репина было не только расхищено при жизни художника, но и распродано по белу свету после его смерти. Это он не допустил, чтобы ценные альбомы с рисунками Репина были проданы советским музеям.
Свои печальные наблюдения И. Гинцбург заключил такими горестными словами:
«Он узник, заложник в руках тех, кто из чувства мести и злобы готовы запачкать все прошлое, славу и имя великого русского художника, который своим творчеством принадлежал и будет принадлежать свободной России».
Да, он был узником в своем доме. Не верил, не хотел верить хорошим вестям. Тому же Нерадовскому он писал:
«Как небылице, я не верю Чуковскому, будто бы «Государственный совет» в музее, а его портрет и «Группа славянских композиторов» — в Третьяковской галерее».