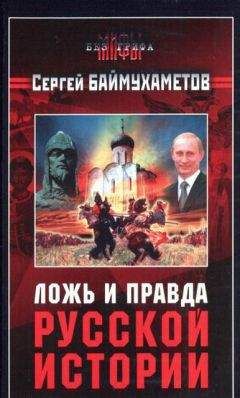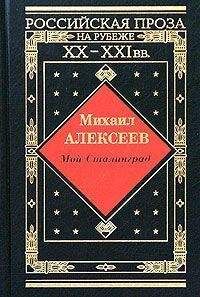Михаил Филин - Мария Волконская: «Утаённая любовь» Пушкина
Таким образом, перед нами еще один синхронический эпизод из истории отношений Пушкина и Раевской-Волконской: поэт, сочиняя 15 мая 1829 года стихи, думал — светло и печально — о Марии, но в те же буквально сроки пребывавшая в Сибири Мария, получив от отца эпитафию на смерть своего сына, вспоминала о поэте. Их думы, как и встарь, неслись навстречу друг другу…
C. M. Бонди выводит следующее: «Можно сделать довольно вероятное, как мне кажется, предположение о том, почему он (поэт. — М. Ф.) не печатал окончания стихотворения. Только что добившемуся руки Натальи Николаевны жениху-Пушкину, вероятно, не хотелось опубликовывать стихи, написанные в разгар его сватовства и говорящие о любви к какой-то другой женщине („Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь“). В напечатанных же первых двух строфах этот мотив — новое возвращение прежнего чувства („И сердце вновь горит и любит“) — настолько незаметен, что комментаторы, не знавшие „продолжения отрывка“ (да и современники Пушкина, его знакомые), нередко относили эти стихи к самой Гончаровой. Не исключена возможность также, что те же соображения (опасения каких-нибудь конкретных применений) заставили Пушкина изменить первые два стиха и перенести место действия в Грузию…»[734]
Поэтому и стих «Что не любить оно не может» из второй строфы должен пониматься вовсе не так, как его сгоряча поняла (вероятно, поняла) княгиня. В нем заключено пронзительное признание: сердце поэта жаждет не любви вообще, к кому бы то ни было, нет — оно не может не любить Марию и по-прежнему принадлежит ей, ей одной (ср. с последним стихом «Посвящения» «Полтавы»: «Одна любовь души моей»).
Как примирить такое признание с параллельным (и несомненным) влечением Пушкина к Наталье Гончаровой — отдельный и долгий разговор, который уже не имеет прямого касательства к нашей книге.
Знаменательно, что Пушкин, как-то обратившись к черновику, зачеркнул (вслед за третьей) и всю вторую строфу (NB: напечатанную!). С. М. Бонди выдвинул гипотезу, будто поэт тем самым создал новый вариант произведения, который состоял из первой («Всё тихо — на Кавказ идет ночная мгла…») и четвертой («Я твой попрежнему тебя люблю я вновь…») строф черновика, — «вариант вполне законченный, значительно отличающийся от стихотворения „На холмах Грузии“ и, пожалуй, не уступающий ему в художественном отношении». Ученый предложил печатать получившееся восьмистишие «среди сочинений Пушкина рядом с „Отрывком“ („На холмах Грузии“), как вполне законченную прекрасную вариацию того же замысла»[735].
Размышление С. М. Бонди кажется нам довольно убедительным. Рискнем развить его: поэт проделал эту операцию после того, как ему стала известна решительная реакция княгини Волконской на «окончание» «Отрывка». Ведь тот же C. M. Бонди установил, что поправка (замена строф) носит более поздний характер и вдобавок сделана карандашом[736].
Такую «вариацию замысла» Мария уже вполне могла бы принять на свой счет.
Однако княгиня Волконская получила от В. Ф. Вяземской лишь две первые пушкинские строфы, то есть лишенный каких-либо ободряющих намеков «Отрывок», в придачу с оплошным комментарием. А черновой автограф стихотворения из «арзрумской» тетради был опубликован (не полностью) В. Е. Якушкиным только через двадцать лет после кончины Марии Николаевны[737]…
3. «Евгений Онегин». Пушкин расстался с Марией Волконской в декабре 1826 года. Он работал над романом в стихах еще почти четыре года и завершил беловую рукопись в сентябре 1830 года.
В последних главах «Онегина» автор претворил в ямбы многие эпизоды собственной биографии и «современные происшествия» в империи, александровской и николаевской. Нашла свое поэтическое отражение в «романе Жизни» и декабрьская катастрофа 1825 года. По нашему убеждению, поэт аллегорически изобразил крах декабризма в рассказе о дуэли и смерти Владимира Ленского[738].
Кажется, запечатлел Пушкин в восьмой (первоначально девятой) главе «Евгения Онегина» и свое последнее, московское, свидание с княгиней Марией Николаевной (об этом, равно как и об оставлении ею «праздника Жизни», уже говорилось выше).
Но этим поэт не ограничился.
Незадолго до женитьбы, в дни «Болдинской осени», он создал цикл стихотворений, куда вошли «Прощание», «Заклинание» и «Для берегов отчизны дальной…». Ими «завершалась любовная лирика Пушкина. <…> Он прощался с давними возлюбленными и со всем своим любовным прошлым»[739]. Среди тех, кому адресовались эти стихи, не было Марии Волконской, что дало повод некоторым ученым еще раз заявить о том, что «утаённая любовь» Пушкина к ней — не более чем фикция.
Но скептики почему-то упустили из виду, что в Болдине поэт окончил «Евгения Онегина» — и окончил его, как известно, проникновенным прощанием с Идеалом Татьяны. К тому же с Идеалом (словно выделяя его) Пушкин попрощался тогда в первую очередь, раньше, чем с прочими «образами милыми»:
И ты прости, мой спутник верный,
И ты, мой милый Идеал… (VI, 636).
А в последней строфе завершаемого романа, в «лучшем из всех эпилогов Пушкина» (В. К. Кюхельбекер), поэт, говоря о той, «с которой образован Татьяны милый Идеал», позволил себе еще один намек, почти откровенность. Мы привыкли, что восьмой стих этой строфы читается так:
О много, много Рок отъял! (VI, 190).
Однако автор, перебеляя 25 сентября 1830 года финал романа, доверил бумаге совершенно иной вариант:
О много, много Рок умчал! (VI, 636).
Если «каноническая» редакция строки вполне «метафизична», безлична и многосмысленна, то изначальная ее («болдинская») версия — напротив, как бы «спущена на землю», приспособлена к земным реалиям и одушевлена. В ней, выражаясь образно, различим след, оставленный каким-то вполне материальным средством передвижения — быть может, каретой или кибиткой. В кибитке же — она, умчавшийся Идеал. Но раз Рок только «умчал» (а не «отъял») Идеал — значит, этот Идеал не исчез насовсем из бренного мира, не переступил порога инобытия; значит, драгоценный Идеал, однажды покинувший «праздник Жизни», по воле Рока всего лишь быстро («вдруг») переместился куда-то, удалился от поэта на баснословное расстояние.
Беловой, оставшийся в рукописи, вариант восьмого стиха последней строфы, несомненно, был также связан с Марией Волконской.