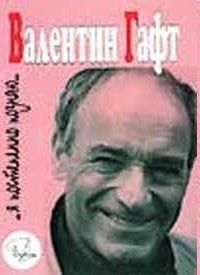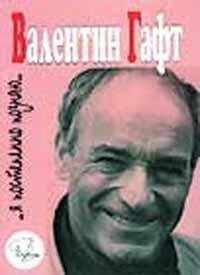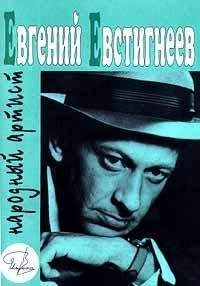Борис Полевой - Силуэты
Последние месяцы жизни, когда больное сердце все чаще давало себя знать, Николай Жуков удивил всех своих коллег, совершив замечательный гражданский акт: всю обширную Лениниану, выставленную в музее, Лениниану, с которой он всю жизнь не расставался, которая была ему особенно дорога, он безвозмездно отдал в дар Москве, Музею Ленина. Совершил пример высокой гражданственности, не знающей, пожалуй, подобных в истории искусства последних лет. Сделано это было тихо, без всякого торжественного шума, и лишь после смерти появились на эту тему коротенькие заметки.
А потом он поехал с очередной выставкой своих произведений в один из больших городов Нижнего Поволжья. Врачи отговаривали.
— Поберегите сердце. Мы вам категорически не рекомендуем.
Художники и близкие говорили:
— Пусть выставка едет без тебя.
Признаюсь, я ему тоже не советовал: раз нездоров, сиди дома. Великолепно без тебя посмотрят. В ответ на это он сказал:
— Ничего со мной не случится. А случится, лучше уж догореть огнем, чем коптить, как головешка. Нет-нет, я еще поработаю, у меня еще столько задумок…
Выставка в нижневолжском городе тоже прошла с успехом. Но сам он, переутомленный дорогой, встречами, беседами с посетителями, слег там в больницу. Но вскоре встал, попрощался и с папкой новых эскизов и набросков вернулся в Москву.
— Ты, говорят, болел? — спросил я его по телефону.
— А, ничего нового, зато знаешь, какие зарисовки привез! Приходи завтра смотреть. И знаешь, как там, в Поволжье, люди интересуются искусством, а главное, разбираются.
В ту пору в «Юности» готовился номер со вкладкой, посвященной творчеству великого нашего скульптора Андреева — мастера, которому посчастливилось в течение продолжительного времени лепить и рисовать Ленина с натуры. Жуков любил, нет, это не то слово, — со свойственной ему душевной щедростью он чтил этого замечательного ваятеля и графика. Работая над Ленинианой, он учился у Андреева. К тому, как не к нему, обратиться с просьбой написать статью об андреевских работах. Сказал ему об этом. И тут же услышал жизнерадостный ответ:
— Здорово. Отлично задумано. Молодцы твои «юниоры». На Андрееве, на Андрееве надо воспитывать молодежь.
— Ну, а как насчет статьи?
— Напишу. До чертиков некогда, — он пулеметной очередью выпалил длинный список дел, которые ждут его, только что вернувшегося из длительной командировки. — Но сделаю. Вот что: заходи завтра ко мне в мастерскую в одиннадцать ноль-ноль. Захвати то, что вы собираетесь печатать. Обсудим, обмозгуем. Заодно покажу поволжские зарисовки. Заходи, жду.
Это была последняя фраза, которую я слышал от Николая Жукова. На следующий день мне позвонила его жена — его друг и помощник во всех его делах и начинаниях, позвонила и дрожащим голосом сказала:
— А Колечку ночью увезли. «Скорая помощь». Сильнейший приступ. Когда увозили, просил предупредить, что свидание переносится. Но статью об Андрееве обещал написать. Как только отдышится.
Этой статьи о любимом скульпторе Андрееве он не написал. Через несколько дней мы читали объявление о его кончине, забранное в черную рамку. Со страниц газет смотрел его портрет: немолодой, бравый полковник с круглым, добрым, таким русским лицом. И даже на этих траурных фотографиях в уголке его глаз угадывалась не видимая, но как бы ощутимая жуковская улыбка.
Он, этот славный мастер, умер как солдат, выполняя боевой приказ своего времени. И хоронили его как солдата. Гроб стоял в зале Дома Советской Армии. Сменялись наряды почетного караула, и вперемежку с толпами поклонников его боевого, целиком отданного сегодняшнему дню искусства, целыми подразделениями проходили солдаты, матросы, летчики. Гроб его опустили в землю под звуки траурного залпа. Он уходил из жизни как солдат бессрочной службы, погибший при выполнении ответственного боевого задания своего славного времени.
Высший приз
Судьба наградила этого человека самым высоким титулом, какие только были когда-то в королевской Италии. Родители, образованные аристократы, дали ему красивое имя. Но известен в своей стране, а потом и во всем мире он стал под тем шутливым псевдонимом, под которым в юношеские годы вышел на цирковой ковер.
Мы познакомились случайно. Послевоенный Рим еще не видел советских военных. Наша армейская и флотская форма привлекала тогда общее внимание. В ту пору в столице с огромным успехом шло веселое ревю «Любовь в XXI веке». Шло оно в постановке этого артиста, и сам он играл несколько ролей, в том числе одну женскую. Озорное остроумие пьесы проникало даже сквозь толщу беглого перевода. Мы — несколько советских офицеров, занимавшие ложу у самой сцены, искренне потешались. Наша необычная для Италии форма, а возможно и густой российский хохот и привлекли внимание артиста. Мы получили приглашение посетить его за кулисами. Несмотря на усталость, он встретил сердечно, крепко жал руки и в заключение обещал завтра сам показать Рим.
Приглашение это было с благодарностью принято, и, встретившись на следующий день, мы убедились, сколь тяжелым может быть бремя актерской славы. Ходить с ним по городу было просто невозможно. Прохожие узнавали его, оглядывались, останавливались. Стоило нам ненадолго задержаться среди руин древнего Форума, как откуда-то из-за заросших травой и мхом колонн вдруг возникала стайка тощеньких, смуглых, чернооких девиц. Отчаянно перешептываясь, они двинулись за нами, пожирая нашего спутника любопытными взглядами. Шофер такси после рассчета потребовал у него автограф. Торговец, что продавал в тени Колизея жареный миндаль, вручив ему пакетик своего нехитрого лакомства, вдруг отвел руки назад: нет-нет, не надо денег. Он, конечно, человек небогатый, но все-таки он может себе позволить удовольствие угостить любимого артиста.
К этой своей славе наш новый знакомый давно привык. С заученной приветливостью отвечал на поклоны, улыбка как бы сама собой зажигалась и гасла на его лице, рука механически выводила какую-то сложную загогулину в записных книжках, на визитных карточках, на папиросных коробках, которые ему подставляли. А глаза, выпуклые, черные, блестящие, глаза, так часто глядевшие с театральных афиш, сохраняли при этом свое обычное, задумчиво-грустное выражение.
Он был малоросл, худощав. Только глаза и были по-настоящему красивы. Лицо же, необычайно белое для итальянца, казалось собранным по частям: высокий шишковатый лоб нависал над ястребиным носом, резко очерченный рот был великоват, скулы сильно выдавались. Но все эти черты, вроде бы совсем не подходившие друг к другу, вместе составляли лицо столь выразительное, что артист, выступая всегда почти без грима, с одинаковым успехом играл и комические, характерные, и даже трагические роли.