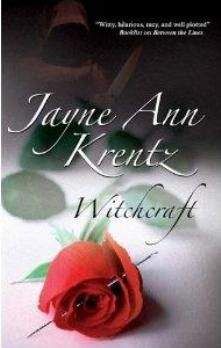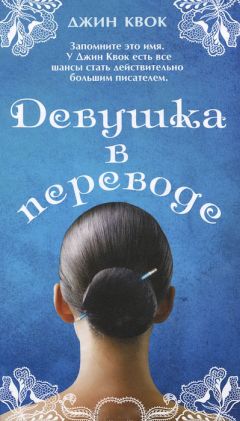Борис Соколов - Ленин и Инесса Арманд
И разрешение на переводы было дано. Разумеется, без санкции ЦК Крупская не могла сделать этого. Очевидно, Сталин сообразил, что воспоминания Крупской все же незаменимы при создании ленинского мифа. Ведь ее жизнь – это и была прежде всего забота о Ленине. Ни о чем другом Надежда Константиновна писать не хотела, да и не могла. И ни один мемуарист не сообщил столько подробностей о жизни вождя. Да и как-то неудобно было запрещать книгу ленинской вдовы. В конце концов, подходящие эпизоды всегда можно растиражировать в других изданиях, а на неудобные просто не обращать внимания.
Положение Крупской улучшилось примерно через год, когда Надежда Константиновна вновь начала публиковаться в «Правде». 23 августа 1935 года Сталин передал тогдашнему председателю Комиссии партийного контроля и будущему «стальному наркому» Николаю Ивановичу Ежову предложения Надежды Константиновны об организации школьного обучения взрослых, не получивших в свое время должного образования, и о публикации в «Правде» ее статьи на эту тему, а также об учреждении музея Ленина в Москве. В сопроводительной записке генсек особо подчеркивал: «Т. Крупская права по всем трем вопросам. Посылаю именно Вам это письмо потому, что у Вас обычно слово не расходится с делом и есть надежда, что мою просьбу выполните, вызовите т. Крупскую, побеседуете с ней и пр.» Ежов поручение выполнил, за что удостоился похвалы вождя, лично сделавшего замечания и дополнения к проекту ленинского музея.
С наркомом просвещения Андреем Сергеевичем Бубновым у Надежды Константиновны складывались не слишком теплые отношения. 5 июня 1937 года Крупская жаловалась в письме Сталину: «Власть наркома в наркомате безгранична. И не всякий нарком пользуется этой властью так, как надо… Но вот чего нельзя допускать – это превращения партии в простое орудие выполнения воли наркома. Нельзя, чтобы нарком грозил не только уволить с работы, но и исключить из партии. Это безмерно усиливает бюрократизм, подхалимство, и без того процветающие в наркомате. Нельзя, чтобы секретарь парткома был просто исполнитель воли наркома. Получается атмосфера подсиживания друг друга, сплетен, чтения в сердцах, получается безысходная склока. Я помню, как боролся всегда с атмосферой склоки Ильич. Это было в Сибири, в Лондоне.
По заданию наркома партком обслуживает и печать. Люди пишут под псевдонимами, клевещут безответственно на работников. Так нельзя. Все это пагубно отражается на деле…
Другой вопрос – это недостаточно налажена борьба с бюрократизмом, не словесная борьба, а деловая… Перестройка работы идет медленно, часто очень поверхностно, больше говорят».
13 октября 1937 года Бубнов был снят с должности, а вскоре арестован и расстрелян как «враг народа». Не исключено, что письмо Крупской послужило поводом для смещения Андрея Сергеевича, но не стоит думать, что со стороны Надежды Константиновны это был скрытый донос на нелюбимого шефа с далеко идущими политическим расчетом. Конечно, Крупская желала ухода Бубнова из наркомата, возможно, даже надеялась занять его место, но не могла предполагать столь трагический исход. Тем более что принципиально Бубнов ничем не отличался от большинства наркомов, чувствуя себя в Наркомпросе царем, богом и воинским начальником. Не за бюрократизм же и поощрение подхалимажа его казнили, а в рамках проводимой Сталиным «смены караула», когда шел планомерный отстрел старых большевиков, которых в органах власти заменяли более молодые выдвиженцы, лично преданные генсеку. Крупскую же наркомом просвещения Сталин делать не стал – учитывал оппозиционное прошлое, преклонный возраст и плохое здоровье.
Надежда Константиновна еще раз обратилась с письмом к Сталину 7 марта 1938 года в связи с введением преподавания русского языка во всех школах советских республик: «Мы вводим обязательное обучение русскому языку во всем СССР. Это хорошо. Это послужит углублению дружбы народов. Но меня очень беспокоит, как мы это обучение будем проводить. Мне сдается иногда, что начинает показывать немного рожки великодержавный шовинизм». Беспокоилась Крупская не зря. Очень скоро великорусский шовинизм показал ей рожки, и не где-нибудь, а в Политбюро.
5 августа 1938 года высший партийный орган принял грозное постановление «О романе Мариэтты Шагинян «Билет по истории», часть 1-я – «Семья Ульяновых»«, где, в частности, говорилось: «Осудить поведение Крупской, которая, получив рукопись романа Шагинян, не только не воспрепятствовала появлению романа в свет, но, наоборот, всячески поощряла Шагинян, давала о рукописи положительные отзывы и консультировала Шагинян по различным сторонам жизни Ульяновых и тем самым несла полную ответственность за эту книжку. Считать поведение Крупской тем более недопустимым и бестактным, что т. Крупская сделала это без ведома и согласия ЦК ВКП(б), за спиной ЦК ВКП(б), превращая тем самым общепартийное дело составления произведений о Ленине в частное и семейное дело и выступая в роли монополиста и истолкователя общественной и личной жизни и работы Ленина и его семьи, на что ЦК никому и никогда прав не давал».
Чем же вызвал гнев партийного синклита правоверно-марксистский, казалось бы, роман о детстве и юности Владимира Ульянова, где главный герой нарисован вполне сусально? Политбюро прегрешения Шагинян не конкретизировало. Но через четыре дня для разборки с проштрафившимся автором собрался президиум правления Союза писателей. Мариэтте Сергеевне коллеги вынесли порицание за искаженное представление о «национальном лице» Ленина, за то, что в романе не подчеркивается то обстоятельство, что вождь большевиков является «гением человечества, выдвинутым русским народом».
Гнев Сталина и его соратников по Политбюро вызвали не столько слова писательницы о том, что по отцовской линии бабушка Ленина происходила из «крещеного калмыцкого рода», сколько утверждение автора «Билета по истории», будто дед Ильича по матери – «украинец Александр Дмитриевич Бланк». Если разобраться, то данное утверждение, действительно, звучит издевательски. Ведь отец матери Владимира Ильича первую половину своей жизни, до перехода из иудейства в православие, звался не Александром Дмитриевичем, а Срулем (Израилем) Мойшевичем. Украинец Сруль Мойшевич Бланк – это, конечно, сильно сказано. Тем более что дед Ленина, умерший в год рождения своего всемирно знаменитого внука, наверняка ни слова по-украински не знал и украинцем себя никогда не считал.
Но в 1938 году о еврейском происхождении вождя большевиков уже нельзя было открыто говорить. Подчеркивать «инородческие» корни Ленина стало не только не своевременно, но даже опасно. Хотя ни Шагинян, ни Крупская никакого злого умысла не имели. Неизвестно, кому из них пришла в голову роковая мысль объявить Бланка украинцем. Но логику такого решения можно понять.