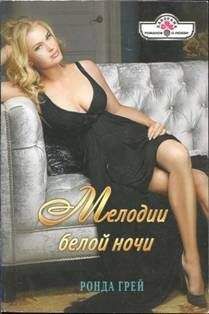Светлана Коваленко - Анна Ахматова
Исследователи склонны считать, что письмо – факт лицемерия «мнимого» друга, в самом деле способствовавшего удалению Пушкина из Одессы и его разлучению с Е. К. Воронцовой, к которой оба питали страсть, что именно письмо дало повод к стихотворению «Коварство», пристально исследованному Ахматовой. Анализируя тексты «Евгения Онегина», стихотворений «Демон», «Коварство», «Вновь я посетил…», «Когда порой воспоминанья…», Ахматова связывает их с памятью об одесском «демоне». Выводы Ахматовой совпали с изысканиями Т. Г. Зингер—Цявловской, что укрепило ее в догадках, переходящих, по ее убеждению, в истину.
Глубинный анализ психологических мотивов (мнимая дружба, предательство) ведет к объяснению «хандры» Пушкина, принимающей, как дает понять Ахматова, маниакальный характер.
Поставив перед собой в размышлениях, оставшихся незавершенными, определенную задачу, Ахматова блистательно ее решает. Но уже в заметках к «Уединенному домику на Васильевском» мы видим, как расширяются горизонты ее «штудий», в какой широкий общественно—политический и этический контекст вводится «хандра». Здесь, как и в «Невском взморье», центральной и всеобъемлющей предстает тема друзей—декабристов как личная судьба. Ахматова снова и снова напоминает о подобранных Вяземским и Пушкиным в Петропавловской крепости, на месте помоста для пяти виселиц «пяти щепочках», найденных после смерти Вяземского в его шкатулке, об обследовании в праздник Преполовения Невского взморья в поисках предполагаемого места захоронения декабристов на острове Голодай. Все это было для Ахматовой глубоко личным. Столетие спустя она также искала в окрестностях Петербурга могилу расстрелянных по делу Таганцева и его боевой организации, по которому проходил Николай Гумилёв.
Возвращенный в Петербург из Михайловского, Пушкин по крупицам вбирал в себя сведения о процессе над декабристами, о казни и каторге, о женах, последовавших в Сибирь. И не мог он не слышать о беседе императора Николая I с Александром Раевским, когда оба брата содержались в казематах Петропавловки по подозрению в причастности к заговору: «Я знаю, что вы не принадлежите к тайному обществу, но, имея родных и знакомых там, вы все же знали и не уведомили правительство; где же ваша присяга?» Раевский ответил: «Государь! Честь дороже присяги; нарушив первую, человек не может существовать, когда как без второй он может обойтись еще» (Друзья Пушкина. С. 78).
В кризисный 1828 год Пушкиным были написаны «Воспоминания», стихи дорогие и по—своему близкие Ахматовой, ставшие предметом ее глубокого исследования в работе «1828 год, или Уединенный домик на Васильевском».
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
Она оставляет поэта на пороге возможного катарсиса, но отнюдь не во власти его. «Пушкинские штудии» завершают две работы: «Невское взморье» – о поисках могилы декабристов и «Страницы из книги „Гибель Пушкина“».
Ахматова напоминает в назидание последующим правителям, что тела казненных Искры и Кочубея были переданы родным и захоронены в самом центре православия – Киево—Печерской лавре. Слияние поэзии и биографий позволяет взглянуть на факты биографии через магический кристалл искусства, высвечивающий главное – предмет поэзии и решаемую ею, как писал Пушкин, нравственную задачу, которая в его «Демоне» оказалась намного значительнее образа и личности «новоизбранного друга» Александра Раевского.
Для Ахматовой такой нравственной задачей оставалась неизбывная память. Когда она писала и переписывала трагедию «Энума элиш», свой «Сон во сне», она шла сама и вела за собой читателя, как Вергилий Данта, кругами ада, от кромки ассиро—вавилонской культуры в мир западноевропейской литературы, к поэмам Колриджа, Шелли, Байрона, Пушкина, Лермонтова, Маяковского, Блока, к своей «Поэме без героя» и через них к познанию архетипа поэта как личности изначально трагической.
Известно, что работа над «Поэмой без героя» продолжалась и после того, как Триптих был уже полностью завершен: тем не менее перестраивалась композиция, приближая произведение к театральному действу. В апреле 1965 года была вписана в рабочий экземпляр новая строфа, вызванная памятью о Владимире Шилейко (и не только о нем), известном ассириологе, исследователе клинописи, владевшем даром графического письма, еще в гимназические годы вступившем в переписку с крупнейшими учеными мира, самобытном поэте:
Не кружился в Европах бальных,
Рисовал оленей наскальных,
Гильгамеш ты, Геракл, Гессер —
Не поэт, а миф о поэте,
Взрослым был уже на рассвете
Отдаленнейших стран и вер.
Этой строфой Ахматова возвращалась к далекому времени, когда Николай Гумилёв переводил «Гильгамеша», к изданию которого – первого в России – его друг Шилейко написал предисловие.
До самого конца жизни Гумилёв и его мученическая смерть оставались для Ахматовой неизбывной болью, снова и снова, в разных контекстах возникая в ее поэзии.
Чаще всего эта их «встреча» происходила как бы между жизнью и смертью. В 1940 году, когда уже был завершен «Реквием», Ахматова писала в стихотворении «Так отлетают темные, души…»:
…Знаешь, я годы жила в надежде,
Что ты вернешься, и вот – не рада.
Мне ничего на земле не надо,
Ни громов Гомера, ни Дантова дива.
Скоро я выйду на берег счастливый:
И Троя не пала, и жив Эабани,
И все потонуло в душистом тумане…
В переводе «Гильгамеша» Николаем Гумилёвым имя Энкиду, погибшего по воле богов, дано в старом написании – Эабани.
Глава третья
АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОЗА АННЫ АХМАТОВОЙ
О своей прозе Ахматова говорила: «Книга, которую я никогда не напишу, но которая все равно уже существует, и люди заслужили ее» (Мандрыкина Л. Ненаписанная книга. «Листки из дневника А. Ахматовой» // Книги. Архивы. Автографы. М., 1973. С. 62). О том, какой она хотела видеть свою до конца не осуществленную книгу прозы, можно судить, обратившись к планам—проспектам и даже оглавлениям книги, сохранившимся в рукописях Ахматовой, ее рабочих тетрадях. Из них видно, что и в какой мере было завершено, что утрачено в результате нескольких сожжений, последний раз, по—видимому, поздней осенью 1949 года, после очередного ареста сына – Л. Н. Гумилёва и последовавшего обыска.
Можно согласиться с автором, что эта ненаписанная книга действительно существовала и существует, вопреки канону и жанровым определениям. Свое грандиозное биографическое повествование Ахматова одно время хотела назвать «Мои полвека». Судя по развернутому плану—проспекту, это было бы эпохальное произведение, рассказ «о времени и о себе», о себе во времени, о современниках и их трагических судьбах.