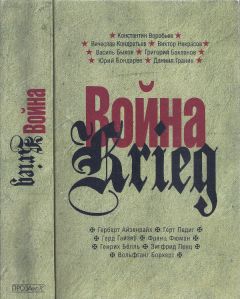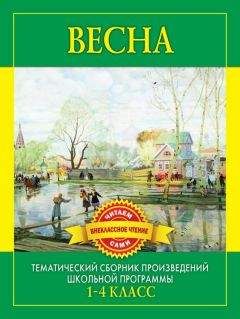Анатолий Марков - Родные гнёзда
Теребуж, доставшийся ему в совместное владение с братом, и с печальной тенью прошлого, тяготевшей над ним, его не привлекал, и Лев Александрович жить в нём не стал, так как не такова была натура старого барина, чтобы делиться властью в собственной усадьбе, хотя бы и с родным братом.
Отдав этому последнему Теребуж, прадед решил выстроить себе новую усадьбу на новом месте. Выбор его пал на одно из самых дальних владений семьи, ещё не тронутую плугом степь в десяти верстах от уездного города Щигры, на реке Рати. Первыми колонистами этой глухой Аладьинской степи за десятки лет до постройки усадьбы была семья теребужского крестьянина Ивана Мелентьева, по прозвищу Губан, который был послан сюда с двумя другими семьями при царице Екатерине, когда здесь ни одной из современных нам деревень не существовало. Эти три семьи положили начало так называемым Мелентьевым хуторам, через которые мы ездили из имения моего отца в гости к деду.
Мы с братом хорошо знали дорогу и все её достопримечательности, связанные со старыми семейными историями. Вот знаменитые «медвединские кусты», напирающие на дорогу версты три сряду. Здесь совершился всем памятный подвиг храбрости нашего деда, который с одним денщиком Соколовым с нагайкой в руках вырвался в глухую ночь из засады разбойников и всех их переловил на другое утро со своими драгунами.
Мы с братом Колей благоговейно всматриваемся в старый столб над межевой ямой, исторический монумент этого семейного геройства, и рисуем себе эту картину среди ночного мрака и безмолвия…
Гораздо обильнее окружена сагами всякого рода бесконечно длинная гать, обсаженная столетними дуплистыми вётлами, тянущимися на целую версту среди камышей живописной Рати. Здесь наш лихой другой дед, прогусарившийся гусар, на удалой тройке со своим отчаянным Петрушкой и силачом кучером Иерей ездивший по самым глухим дорогам и в самые тёмные ночи, тоже попался разбойникам. Они не только отбились втроём от двенадцати нападавших, но и будто бы привезли их всех в Щигры всё на том же тарантасе.
Хотя у нас с братом и выходили разногласия относительно некоторых обстоятельств этого происшествия, и раз мы даже с ним пребольно подрались, не сойдясь между собой в том, сколько было разбойников — двенадцать или три, однако мы не смущались этими случайностями, принимая за истину тот вариант, в котором оказывалось больше ужасов и больше молодечества.
Исторический Думный курган, простодушно называемый мужиками Дымным, особенно волновал по дороге в дедово имение наши поэтические инстинкты. Он видел, этот древний каменный колосс, целое тысячелетие, ему молились, его отыскивали глазами сквозь даль степей ещё печенеги, половцы и монголы. Зачем стоял он здесь на том же могильном кургане, и неужели ещё целое тысячелетие он будет стоять здесь, безмолвно вперив свои каменные глаза в таинственную тьму ночи, карауля вечность, вечной загадкой людям?
Блестящим молодым офицером генерального штаба, или, как в те времена говорили, «колонновожатым», прадед должен был, в связи с событиями декабрьских дней 1825 года, выйти в отставку и навсегда поселиться в деревне, важно расписываясь на самых незначительных бумагах «Свиты Его Величества подпоручик», не желая переменить этого почётного титула ни на какие штатские чины, хотя ему случалось служить подолгу в значительных должностях по выборам, где он мог бы получить крупный гражданский чин.
Крамола его была самого, впрочем, невинного характера. Вращаясь среди гвардейской молодёжи своего времени, он, не входя в число заговорщиков, тем не менее поддерживал со многими из них приятельские отношения и, в частности, дружил с Муравьёвыми, Пестелем, Бобрищевыми-Пушкиными, бывшими частыми гостями в гостиной прабабки Елизаветы Андреевны, дочери суворовского генерала фон Ган, русского коменданта Цюриха в итальянском походе. Тем не менее, после 14 декабря он был скомпрометирован этим знакомством в глазах императора Николая, и его блестяще начатая карьера в «свите Его Величества корпуса колонновожатых» по окончании известной школы Муравьёва оборвалась.
С годами воспоминания молодости забылись, и только однажды, уже много лет спустя, когда из Сибири вернулся один из участников декабрьских дней и навестил Льва Александровича и его супругу в их Александровке, старики вспомнили бурные дни невозвратного прошлого, и Елизавета Андреевна не без подъёма исполнила на рояле в честь возвратившегося друга революционный полонез Огинского, когда-то им написанный в тюрьме.
В Александровке, названной так прадедом в честь его отца, родился и прожил всю свою жизнь мой дед, родился и жил до своей женитьбы и мой отец. В неё по традиции каждый год вокруг своего серебряного самовара собирала бабушка Анна Ивановна всё молодое поколение старого колонновожатого. Она была второй женой деда и родом из Полтавщины, в молодости отличаясь необыкновенной красотой.
Во время посещения Полтавы императорам Николаем Павловичем, понимавшем толк в этом деле, государь, вопреки обычаю, танцевал почти весь вечер с молодой красавицей, поразившей его своей наружностью. В моё время Анна Ивановна была маленькой беленькой старушкой с тонким, словно точёным из слоновой кости личиком, очень сердившейся на нас, внуков, когда мы ей напоминали о её бывшей красоте. Только изредка, когда она была в особенно хорошем настроении, удавалось уговорить бабушку показать нам портрет, написанный с неё, когда ей было 18 лет. Тонкой акварелью на овальном медальоне, как писали в старину, она была изображена в белом воздушном платье и казалась действительно совершенно райским видением. Старики утверждали, что портрет отнюдь не преувеличивал её былой прелести.
Дом в Александровке был полон стариной, вывезенной из Теребужа: дедовскими портретами, строго смотревшими со стен на своих резвых потомков, затейливыми шкафами и шифоньерками красного дерева, с круглыми углами диванами-мастодонтами, изделиями крепостных мастеров, и часами-колонками, стоявшими по углам, которых в детстве мы почему-то особенно опасались. Мне лично казалось, что в сумерки в них открывались дверцы и в тёмные залы выходил кто-то страшный и таинственный…
Жуть навевала на нас, многочисленную родственную детвору, и одинокая могила нашей бабушки, урождённой Детловой, первой жены деда, умершей в молодости и поэтически похороненной в саду, на круглой площадке липовой аллеи. Здесь дед, писатель и публицист 80-х годов, любил писать свои произведения из старой помещичьей жизни. Детьми мы сторонились этого места по инстинкту живых существ перед тайной смерти.