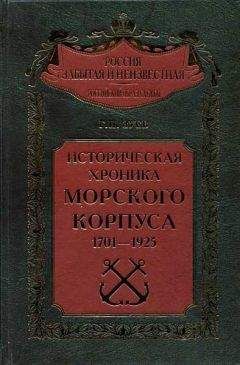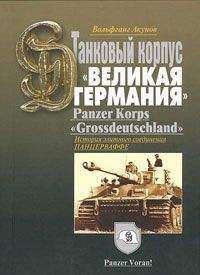Владимир Новиков - Александр Блок
Далее следует цитата из цикла «Через двенадцать лет». Значит, житейская картина уже «отредактирована», дана с поправкой на картину поэтическую.
Не касаясь пока стихов, рассмотрим «прозаические» показания самого Блока.
В записной книжке 20 июня 1909 года есть следующий абзац:
«Bad Nauheim: первой влюбленности, если не ошибаюсь, сопутствовало сладкое отвращение к половому акту (нельзя соединяться с очень красивой женщиной, надо избирать для этого только дурных собой). Может быть, впрочем, это было и раньше».
Написано в Милане, перед отъездом из Италии, за день до приезда в тот самый Бад-Наугейм, где Блока посетят воспоминания о встречах с Садовской и где будут написаны первые пять стихотворений цикла «Через двенадцать лет».
В автобиографии 1915 года Бад-Наугейм присутствует как нечто знаковое, он дважды назван в самом конце:
«Мне приходилось почему-то каждые шесть лет моей жизни возвращаться в Bad Nauheim (Hessen-Nassau), с которым у меня связаны особенные воспоминания.
Этой весной (1915 года) мне пришлось бы возвращаться туда в четвертый раз; но в личную и низшую мистику моих поездок в Bad Nauheim вмешалась общая и высшая мистика войны».
В дневнике от 17 августа 1918 года, однако, читаем совершенно прозаичное описание тех же событий. Как будто и не было стихов на эту тему:
«Весной 1897 года я кончил гимназические экзамены и поехал за границу с тетей и мамой — сопровождать маму для леченья.
Из Берлина в Bad Nauheim поезд всегда раскачивается при полете (узкая колея и частые повороты). Маму тошнило в окно, а я придерживал ее за рукава кофточки.
После скучного житья в Bad Nauheim’е, слонянья и леченья здорового мальчика, каким я был, мы познакомились с m-me Садовской.
Альмединген, Таня, сестра m-me С., доктор, ее комната, хоралы, Teich [5] по вечерам, туманы под ольхой, мое полосканье рта vinaigre de toilette [6] (!), ее платок с Peau d’Espagne [7]».
Свидетельства довольно скупые, создающие ощущение неоднозначности происшедшего. Примечательно, что биографы, излагая этот эпизод, неизменно привносят что-то «личное». В идеологизированной книге Вл. Орлова «Гамаюн» сюжет о Садовской (никак не связанный с политикой) стал особенной новеллой, тон которой предвосхищает стилистику сегодяшней бульварной прессы: «Между прогулками и развлечениями произошло то, что и должно было произойти и что утвердило гимназиста в сознании его взрослости, оставив, впрочем, чувство „сладкого отвращения”» [8]. И далее: «В расстроенных чувствах Сашура проводил свою красавицу в Петербург».
Аврил Пайман описывает это событие более аналитично, но тоже небезоценочно: «Роман, однако, возник из скуки и был обречен на скорое увядание. <…> В отношениях с Садовской для Блока главным была влюбленность (которая его пленяла), а не сексуальный опыт, который его тревожил, но так и остался неразрешенным. Влюбленность же вдохновляла его и как актера, и как поэта. В начале романа с Садовской Блоку еще не исполнилось семнадцать лет, и он был восхищен прежде всего силой собственных эмоций» [9].
Литературовед, прикасаясь к этому сюжету, невольно уподобляется романисту (или по крайней мере новеллисту). Поскольку вместе с Блоком мы попадаем здесь в пространство не просто «жизни» и не просто «творчества», но — жизнетворчества, где каждый шаг и поступок, каждая встреча и разлука приобретают многозначность и потенциальную смысловую неисчерпаемость. Смысл любого события проясняется только в масштабе всей жизни художника и в нераздельном сплаве житейского факта и его творческого отражения.
Что все-таки было в Бад-Наугейме? Вчитаемся в цикл «Через двенадцать лет», отвлекаясь от музыки стиха и обращая внимание только на предметные лирические «улики».
«Голос вкрадчиво-протяжный», «сладко дышат мне духи», «тонкие руки», «гортанные звуки», «синий плен очей», «твои, хохлушка, поцелуи», «раздушенный ваш платок» — ничего, что говорило бы об «отвращении», пусть даже «сладком». В облике женщины — ничего прозаического или надрывно-инфернального, в авторских эмоциях — никакой «амбивалентности», никакого раздвоения. Благодарная память. Облучение женственностью состоялось, и воздействие его было бесповоротным.
Может быть, стихи все-таки опровергают наигранно-цинический пассаж о том, что «нельзя соединяться с очень красивой женщиной»? Когда Блок более равен себе: делая краткие протокольно-дневниковые записи или слагая лирические стихотворения, которые все можно рассматривать как дневник?
Синеокая, Бог тебя создал такой.
Гений первой любви надо мной…
Так начинается четвертое стихотворение цикла «Через двенадцать лет». Под ним проставлено: «Bad Nauheim 1897 — 1909» (а в рабочем экземпляре третьей книги стихотворений эти слова были вписаны под названием всего цикла). Время любви и время стиха не тождественны линейному житейскому времени. Стихотворение начинает слагаться с рождающей его эмоции — даже если адекватные слова и звуки придут много позже. А сердечные ощущения разных времен жизни в сознании поэта живут синхронно — независимо от срока давности. Двенадцать лет… Магическое число — знак не только протяженности, но и завершенности, полностью пройденного круга.
Последние три стихотворения цикла сложены в марте 1910 года в Петербурге. В них воспоминание переходит в прощание. Появляется строка «Синий призрак умершей любовницы…». До автора дошел слух о смерти Садовской. Но почему он так легко в него поверил? Может быть, ему нужен был сам знак смерти — для завершенности круга, для завершения цикла?
Тема, однако, не отпускает автора до сентября того же года, когда в записных книжках появляются черновые наброски стихотворения «Ночная песнь», которое потом получает название «Посещение». Оно написано на два голоса, первый из которых — женский. Умершая любовница подает голос из небытия:
Но читаю в испуганном взоре,
Что ты помнишь и любишь меня.
Наброски стихотворения связаны в рукописи с прозаической записью, вошедшей в тридцать первую записную книжку. Это своего рода новелла, где образ К. С. (Садовской) включен в сложную систему отношений. Вначале выстроен треугольник, напоминающий ситуацию Блока, его жены и Андрея Белого: «Ужасно сложное — в его жену влюблен человек гораздо более значительный, чем он. Они ссорятся, потом мирятся. Любовь. Перипетии любви».
«Он» — не совсем Блок. И кто знает, полагал ли он Андрея Белого в буквальном смысле «гораздо более значительным»? Перед нами как бы конспект большого вымышленного произведения — романа, драмы или повествовательной поэмы. Неожиданнее всего, что К. С. в этом «проекте» присоединяется в качестве четвертого элемента к легендарной триаде: «Но есть одна задняя мысль: он, „защитивший” жену и сам называющий ее „первой любовью”, всегда смутно знает, что она — не первая любовь. Какая же была первая?»
![Олег Хазин - Пажи, кадеты, юнкера[Исторический очерк]](/uploads/posts/books/48021/48021.jpg)
![Олег Хазин - Пажи, кадеты, юнкера [Исторический очерк]](/uploads/posts/books/50071/50071.jpg)