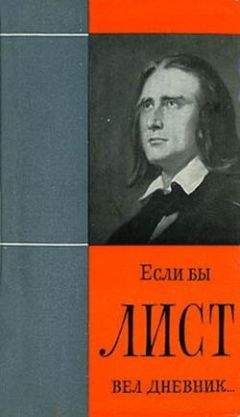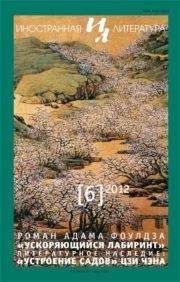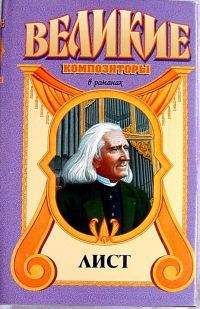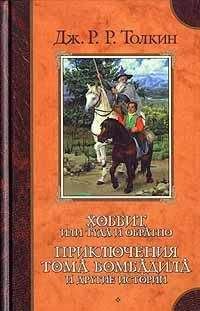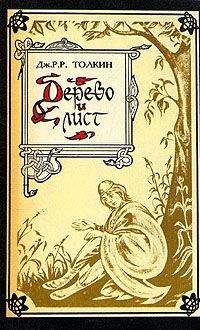Иван Жигалов - Свет маяка
— Посиди малость, — Иванов кивнул на скамейку. — Я мигом вернусь.
Шуханов пролез в закопченную дверцу бани. Квадратное оконце, хотя и небольшое, достаточно освещало помещение. Справа при входе — каменка, тут же полок, по стенам — скамейки с опрокинутыми шайками. «Зачем бородач привел меня сюда? Может, уйти? Впрочем, отступать поздно, да и некуда», — подумал Шуханов.
Вернулся хозяин. Он принес глиняный горшок, накрытый толстым ломтем ржаного хлеба, поставил на дно опрокинутой бочки и, посмотрев на гостя из-под густых нахохленных бровей, предложил:
— Закуси, поди, проголодался с дороги. Так-то.
Шуханов взял горшок и с удовольствием стал пить молоко, заедая вкусно пахнувшим хлебом.
А Никита Павлович присматривался, думал: «Вроде похож. Таким и обрисовал его Камов». Спросил:
— Откуда путь-то держишь?
Шуханов ответил: он из Пскова, а в этих краях очутился, чтобы купить кое-что из продуктов: семья умирает с голоду. Покончив с едой, достал из кармана пачку американских сигарет и протянул хозяину. Тот, в свою очередь, предложил кисет с самосадом.
— Собственного производства. Не уступает казенному. Так-то.
Шуханов заметил, что слово это Иванов произносит часто и по-особенному.
В кисете не оказалось бумаги. Шуханов достал из кармана аккуратно сложенную немецкую листовку, подобранную где-то по дороге, оторвал от нее уголок, стал курить козью ножку.
Никита Павлович не спеша выбивал из кремня искру, чтобы загорелся кусочек рыжеватого трута, наблюдал за гостем. «Козью ножку мастерит, значит, простые цигарки вертеть не умеет, к папиросам привык». Наконец, «электростанция» сработала. От загоревшегося трута в бане запахло чем-то отдаленно напоминавшим запах печеной картошки.
Шуханов набил козью ножку самосадом и неумело закрепил кончики бумаги. Никита Павлович положил в нее тлеющий кусочек.
— Как живется-то? — раскурив папиросу, спросил Шуханов.
— Да ведь живем… — Никита Павлович бросил окурок потушенной сигареты в сторону каменки, едва видневшейся в темном углу… — Все живут: человек, волк, собака, птица. Каждый по-своему. Помаленьку — день да ночь — сутки прочь. Так-то.
«За кого он меня принял? — размышлял Шуханов. Посмотрел на лежавшую пачку американских сигарет. — Напрасно я ее показал, еще сочтет за предателя».
— Немцы-то в деревне есть?
— Скоро пожалуют… Всегда к ночи появляются.
«В такую глушь они и днем, видно, редко заходят», — подумал Шуханов.
— Патрули, значит?
— Вроде.
— Поди, все забрали?
— Хватит и нам. Не станет хлеба, коры на деревьях много. Как-нибудь.
— Семья большая?
— Старуха, внучек да девочка приемная. Так-то.
Иванов начинал сердиться. «Уж говорил бы, что надо, а то тянет, словно нитку из кудели».
Беседа не клеилась. Шуханов сердцем чувствовал, что сидит с честным человеком, но понимал — одному чувству доверяться нельзя. Но как вызвать бородача на откровенный разговор?
— Наверное, сына имеешь?
— Два у меня… А вот где они — не знаю.
— В Красной Армии или в партизанах?
— Кто будешь, что так пытаешь? Коль за продуктами, то у меня ничего нет.
«Вроде дело идет на лад», — Шуханов решился.
— Не за продуктами я, Никита Павлович. Да и менять мне нечего. Помогите мне найти Чащина Вениамина Платоновича.
Иванов насторожился, но виду не показал. Спросил:
— Чащин твой родственник? И тех двоих, что прячутся на гумне?
«Значит, мужичишка побывал здесь».
— Письмо у меня к нему. От дочери. От Тоси.
Иванов в упор посмотрел на Шуханова и уже сердито спросил:
— Скажи, кто будешь и зачем ко мне пришел?
«Да, такого голыми руками не возьмешь». Но отступать уже было нельзя.
— Из Ленинграда мы.
Никита Павлович недоверчиво взглянул, покачал головой, но ничего не сказал.
— Не верите? — Шуханов перешел на «вы».
— То — из Пскова, а теперь вдруг из Ленинграда. Так-то. Ленинград, говорят, у немцев?
Шуханов, недоуменно посмотрев на Никиту Павловича, воскликнул:
— Такого не было и не будет!
— А вот немцы пишут: взяли.
— Врут они!
— Врут, говоришь?
— Врут!
— Да-а, — протянул Иванов. — Правда? А где же она, правда-то?
— Может, и о Москве слыхали? Толкуют, там тоже немцы. Скажи, милый, как на духу — зачем пришел?
Шуханов ответил:
— Пришли, чтобы рассказать вам о Ленинграде. Людям там очень трудно, но они держатся.
— Знаем! Все знаем. Знаем, что нет в Ленинграде немчуры и не будет! И в Москве нет. — Иванов взял с кадки положенную Шухановым листовку с оторванным уголком. Такую он уже читал. В ней фашисты описывали, какие ужасы переживает Ленинград. — «Город сам запросит пощады, сам сдастся. Никто ленинградцев не спасет!» — вслух прочитал и зло воскликнул:
— Брешет Гитлер!
Шуханов, вспомнив, что захватил из рюкзака кусочек ленинградского хлеба, завернутый в кальку, достал его и подал Никите Павловичу.
— Из Ленинграда, — сказал он. — Дневная норма рабочего. Двести пятьдесят граммов…
Иванов посмотрел, понюхал, попробовал на зуб и сплюнул:
— Да неужто его едят?
— Едят! Да ведь и такого нет.
Никита Павлович качал головой. А Шуханов все говорил и говорил о родном городе, о его людях, которые не покидают постов, работают на заводах, о голоде, ежедневных многократных бомбежках и артиллерийских обстрелах.
— Так-то, — тяжело вздохнул Иванов. — Трудно людям. — Помолчал. — Значит, ленинградец? Загляни-ка завтра. О Чащине я расспрошу, быть может, что и узнаю от людей… Наверное, узнаю… — Он поднялся, давая гостю понять, что на сегодня разговор окончен. — Закури на дорожку, — протянул кисет. — Завтра еще потолкуем.
Когда вышли из бани, на улице уже была ночь. Никита Павлович позвал Володю. Тот сразу появился.
— Проводи до гумна. Иди прямиком, — и к Шуханову:
— А завтра тот же человек подъедет. Бывайте здоровы, — и протянул широкую теплую ладонь.
Шуханов пожал ее. «Странный бородач, и чего вдруг прервал разговор?».
Лепов и Веселов вышли из риги. Они здорово перемерзли.
— Ну? — произнес Лепов.
— Порядок? — спросил Веселов.
— Ни черта пока не пойму, — сказал Шуханов.
— Завтра за мной приедет тот же мужик.
Всю дорогу шли молча.
На следующий день Иванов сам выехал к песчаным карьерам. Остановив Химеру в густом молодом ельнике, стал дожидаться и вскоре увидел шагавшего на лыжах человека. Присмотревшись, узнал вчерашнего гостя.
— Садись, подвезу.
Подождав, пока Шуханов устроится на дровнях, повернул на зимник, неширокую, в одну колею, лесную дорогу и, ударяя лошадь вожжой по впалому боку, спросил: