Рафаил Зотов - Рассказы о походах 1812 года
Зато следующее утро было самое неприятное для всех. Это был день первой перевязки всех раненых. Признаки этой перевязки решают судьбу раненого. Если рана у него загноилась, то он, по всей вероятности, вылечится, если же в ране не будет материи, а окажется одно воспалительное состояние, то он может писать свое завещание. Мучения, которые я терпел при этой перевязке, превосходят всякое описание. Длинные и густые волосы, корпия и запекшаяся кровь составили такую плотную массу, что доктору невозможно было приступить. Он велел меня выбрить. Цирюльник тотчас же приступил к этой работе, и все шло хорошо, покуда он не добрался до ран, но тут он необходимо должен был задевать бритвой за раны, и боль была нестерпимая; страдальческий пот выступал на лице крупными каплями. Как ни совестно было кричать при всех, но я не выдерживал мучения и поминутно кричал и ругался. Наконец ужасная операция кончилась; доктор промыл, осмотрел раны и объявил мне, что они, кажется, не опасны. Какое-то собственное чувство давно мне говорило то же, но, признаюсь, докторское подтверждение чрезвычайно меня обрадовало. Я уже решительно стал считать себя в числе живых и тотчас же начал писать письма к матери и к знакомым, рассказывая им о моих подвигах с самой напыщенной скромностью.
В тот же день перевели всех раненых в Езуитский клястер. Это было одно из знаменитейших заведений в Европе знаменитого этого братства. Оно имело 6 т[ысяч] душ в Витебской губернии, и, чтоб сохранить все в целости от жадности французов, они заплатили им миллион франков контрибуции, и четыре месяца продовольствовали всю главную квартиру маршалов Удино и Сен-Сира. И нас приняли они с радушием и заботливостью. Более 300 штаб– и обер-офицеров размещены были по кельям и залам этого огромного здания, и отличный стол обнаруживал искусство поваров и гастрономические склонности этих братьев во Иисусе. Государь император пожаловал нам тогда по рублю в день столовых всем раненым офицерам, и мы, разумеется, ассигновали эту сумму хозяевам, но они с благородным бескорыстием отказались от платы и целый месяц кормили нас даром, предоставя нам пожалованные деньги на карманные расходы. Сверх того, дежурный езуит два раза в день посещал каждого из нас и спрашивал, не нуждаемся ли мы в чем-нибудь?
Я имел случай познакомиться с двумя из них несколько покороче. Один 60-летний итальянец, другой – вообразите себе первоначальное наше удивление! – был русский дворянин и костромской помещик. Воспитываясь у них, он так напитался духом братства, что решился остаться в нем. Сначала вид его производил на нас какое-то неприятное действие, но мало-помалу мы свыклись с этим чувством и даже подружились с этим полуренегатом, потому что беспрестанные его попечения об нас были нам очень полезны и приятны. Оба мои новые знакомца доставили мне по просьбе моей множество самых редких и любопытнейших книг, и, чтоб время страдальческого затворничества провести с пользой, я брал у них уроки греческого и польского языка. Когда же состояние ран позволило уже выходить из клястера, то лучшее общество офицеров собиралось у коменданта и плац-майора. Оба были из ополчения. 12-я дружина первая ворвалась в Полоцк, и за это полковник ее Николев был сделан комендантом, а майор Галченков – плац-майором в новозавоеванном городе. Последний в особенности отличался истинно русским гостеприимством и благородным радушием.
Вскоре получили мы известие радостное, восхитительное. Москва была свободна, и Наполеон отступал!! Сражения при Тарутине и Малоярославце, достигнув до нас в самых преувеличенных видах, уверяли нас, что французская армия вконец разбита и что нам останется только доколачивать бегущих. Тогда-то мы вспомнили наши чувства, наши разговоры в Епифаньевской пустыне, где впервые узнали о взятии Москвы. Какое уныние, какая мрачная безнадежность овладели тогда нашими сердцами. Теперь же вдруг какой неожиданный переворот войны! Вся вооруженная Европа, предводимая первым полководцем, вторгшаяся в Россию как на верную и неизбежную добычу, бежит теперь, бросая пушки, обозы и тысячи пленных. Невозможно описать нашей радости. Это надобно было чувствовать, и чувствовать в то время – единственное, священное! Все мы как сумасшедшие бегали, смеялись, обнимали друг друга и только изредка сожалели, что наши старшие братья в главной армии победами своими мало оставили нам работы. Мудрено ли, что при таком расположении духа мы выздоравливали как богатыри в сказках.
Преследование неприятеля
Сила молодости и здорового телосложения вскоре начали заживлять и мои раны самым быстрым образом. Менее нежели в месяце я уже мог везде прогуливаться – и что ж? первым и беспрестанным желанием моим было поскорее отправиться в армию. Все отговаривали, бранили, хотели даже насильно отправить в Псков (там жила моя мать), но я сам бранился, храбрился и не слушался. Головные мои раны затянулись, об остальных я очень мало беспокоился. Чего же еще было думать? Я хотел удивить всех. Через месяц явиться в армию с полузалеченными ранами. Одно небольшое обстоятельство задерживало меня еще на неделю. Решившись непременно отправиться, я по русскому обычаю за два дня до назначенного мне срока к отъезду пошел в баню и, как уже третий месяц не пользовался этим высоким наслаждением, то и пустился париться с сильным чувством русского молодечества. Вдруг кто-то из товарищей с испуганным видом сказал мне, что у меня по лицу кровь течет. Голова моя, разумеется, была обвязана и часто обливаема холодною водой, несмотря на это одна рана раскрылась, и кровь, пробив бандажи, текла по щекам. Весь жар моей банной поэзии мгновенно простыл; холодная трусливость вступила в права животного самосохранения, недавнее самохвальство превратилось в самую скромную рассудительность – и я спешил поскорее домой. Все дело кончилось, однако, одним почти страхом. Доктор побранил меня за то, что я без совета его пошел в баню, перевязал голову, и чрез неделю я уже опять требовал своего отправления в армию. Никому, разумеется, не нужно было удерживать меня, и я по прекраснейшему зимнему пути полетел в свою дружину.
В 1812 году переход от осени к зиме был удивительно скор. Еще 10 октября смотрели мы из своей кельи в растворенное окно и любовались теплым, прекрасным вечером и живописными берегами Двины, увенчанными батареями и оканчивающимися весьма прозаическим лесом и болотами. 18-го октября Двина уже замерзла, поля покрылись снегом и русская зима вступила в число вспомогательных сил нашей армии. С каким весельем летел я, чтоб поскорее догнать наш корпус! С каким восторгом (и тайной досадой, что меня тут не было) смотрел я на поля Чашник и Смольян, где еще недавно Витгенштейн побеждал третьего французского маршала (Виктора), ему противопоставленного. Снег прикрыл половину кровавых следов здешних битв, но зато оставшаяся на виду была еще разительнее, живописнее. И здесь ополчение оказало много опытов храбрости, но уже более рассудительной, лучше направленной. Чем ближе подъезжал я к нашему корпусу, тем известия становились важнее. Казаки рассказывали мне, что сам Наполеон, кажется, попадется в руки Витгенштейна. У меня дух захватывало от нетерпения, чтоб поскорее поспеть к такой знаменитой развязке. 15-го ноября достиг я до бивака нашего отряда. Сколько радостных новостей ожидали меня? Знаменитые дни под Красным, давшие Кутузову наименование Смоленского, гремели во всех рассказах. Армия Наполеона была, как говорили, в щепки разбита, пушки все захвачены, и остатки расстрелянных полков гонимы к Березине, где их ждет окончательное поражение. Погода способствовала вполне оружию русских. Ранняя зима оказалась ненадежной; сделалась оттепель, и все говорили, что это обстоятельство решительно погубит Наполеона, потому что река Березина, недавно еще ставшая, снова вскрылась. Наполеону непременно надобно было через нее отступать. В виду армии Чичагова, ждавшей его на той стороне, надобно было строить мосты. Сражаясь с Витгенштейном, ожидающим его с правой стороны, и отделываясь от натисков Платова, свистящему в уши с затылка, надобно было переправляться через Березину. Мы заранее торжествовали плен Наполеона. Событие показало нам, что мы немного обочлись.



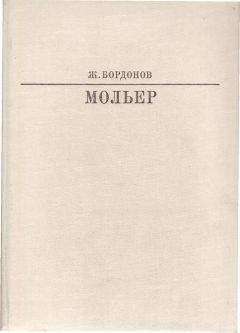
![Жорж Бордонов - Мольер [с таблицами]](/uploads/posts/books/47372/47372.jpg)