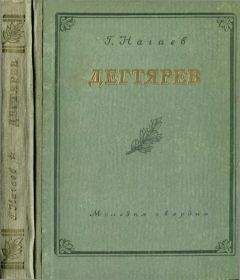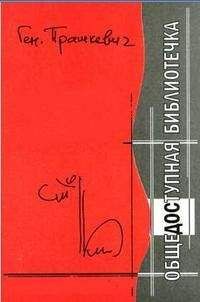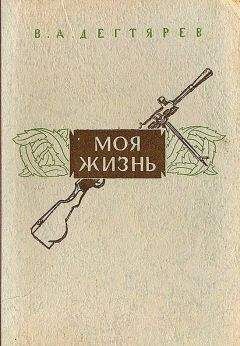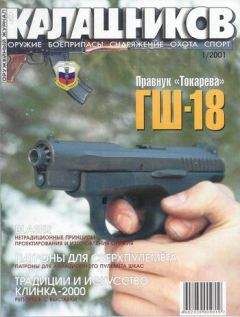Геннадий Прашкевич - Жюль Верн
«Все громче и ближе слышались барабаны… троекратный бой… которым созывалась национальная гвардия, — писал в очерке «Наши послали!»[9] Иван Сергеевич Тургенев (1818— 1883), находившийся в те дни в Париже. — И вот, медленно волнуясь и вытягиваясь, как длинный черный червяк, показалась с левой же стороны бульвара, шагах в двухстах от баррикады, колонна гражданского войска; тонкими, лучистыми иглами сверкали над нею штыки, несколько офицеров ехали верхом в ее голове. Колонна достигла противоположной стороны бульвара и, заняв его сплошь, повернулась фронтом к баррикаде и остановилась, беспрестанно нарастая сзади и все более и более густея. Несмотря на прибытие такого значительного количества людей, кругом стало заметным образом тише; голоса понизились, реже и короче раздавался смех; точно дымка легла на все звуки. Между линией национальной гвардии и баррикадой внезапно оказалось большое пустое пространство, по которому, слегка крутясь, скользили два-три небольших вихря пыли — и, озираясь по сторонам, расхаживала на тонких ножках черно-пегая собачонка. Вдруг, неизвестно где, спереди или сзади, сверху или снизу, резко грянул короткий, жесткий звук, он походил более на стук тяжело упавшей железной полосы, чем на выстрел, и тотчас вслед за этим звуком наступила странная, бездыханная тишина. Все так и замерло в ожидании — казалось, самый воздух насторожился… И вдруг над самой моей головой что-то нестерпимо сильно затрещало и рявкнуло — точно мгновенно разорванный громадный холст. Это инсургенты дали залп сквозь жалюзи окон из верхнего этажа занятой ими жувеневской фабрики. Мои соседи фланеры и я — мы немедленно устремились вдоль домов бульвара (помнится, я еще успел заметить на пустом пространстве впереди человека на четвереньках, упавшее кепи с красным помпоном да вертевшуюся в пыли черно-пегую собачонку) и, добежав до небольшого переулка, тотчас повернули в него. К нам присоединилось десятка два других зрителей, из которых у одного молодого человека лет двадцати была прострелена плюсна. На бульваре, позади нас, беспрерывно трещали выстрелы. Мы перебрались в другую улицу — если не ошибаюсь — в Rue de L’Echiquier (улицу Шахматной доски). На одном ее конце виднелась низенькая баррикада — и мальчишка лет двенадцати прыгал по ее гребню, кривляясь и махая турецкой саблей; толстый национальный гвардеец, бледный как полотно, пробежал мимо, спотыкаясь и охая на каждом шагу…»
И далее: «Погода была жаркая, душная. Я не сходил с Итальянского бульвара, запруженного всякого сорта людьми. Распространялись самые невероятные слухи, беспрестанно сменяясь другими, еще более фантастическими. К ночи одно стало несомненным: почти целая половина Парижа находилась во власти инсургентов. Баррикады возникали повсюду — особенно по ту сторону Сены; войска занимали стратегические пункты: готовился бой не на живот, а на смерть. На следующий день, с раннего утра, вид бульвара — вообще внешний вид Парижа, не занятого инсургентами, изменился, как по мановению волшебного жезла. Вышел приказ начальника парижской армии Кавеньяка, запрещающий всякого рода движение, циркуляцию по улицам. Национальные гвардейцы, парижские и провинциальные, выстроенные по тротуарам, караулили дома, в которых квартировали; регулярные войска, подвижная национальная гвардия (garde mobile) дрались; иностранцы, женщины, дети, больные сидели по домам, в которых все окна должны были быть раскрыты настежь, для предупреждения засады. Улицы мгновенно вымерли. Лишь изредка прокатит почтовый омнибус или карета медика, беспрестанно останавливаемая часовыми, которым он показывает пропускной билет; или с грубым грохотом и гулом проедет батарея, направляясь к месту битвы, пройдет отряд солдат, проскачет адъютант или ординарец. Наступило страшное, мучительное время; кто его не пережил, тот не может составить себе о нем точного понятия. Французам, конечно, было жутко: они могли думать, что их родина, что все общество разрушается и падает в прах; но тоска иностранца, осужденного на невольное бездействие, была если не ужаснее, то уж, наверное, томительнее их негодования, их отчаяния. Жара знойная; выйти нельзя; в раскрытые окна беспрепятственно льется жгучая струя, солнце слепит, всякое занятие, чтение, писание немыслимо… Пять раз, десять раз в минуту раздаются пушечные выстрелы; иногда доносится ружейный треск, смутный гам битвы. По улицам хоть шаром покати; раскаленные камни мостовой желтеют, раскаленный воздух струится под лучами солнца; вдоль тротуаров тянутся смущенные лица, неподвижные фигуры национальных гвардейцев — и ни одного обычного жизненного звука! Просторно вокруг, пусто — а чувствуешь себя стесненным, как в могиле или в тюрьме. С двенадцати часов новые зрелища: появляются носилки с ранеными, с убитыми… Вот проносят человека с седыми волосами, с лицом, белым, как подушка, на которой оно лежит; — это смертельно раненный депутат Шарбоннель… Головы безмолвно обнажаются перед ним — но он не видит этих знаков скорбного уважения: его глаза закрыты… Вот идет кучка пленных, их ведут гардмобили, все молодые ребята, почти мальчики; на них сначала плохо надеялись, но они дрались как львы… Некоторые несут на штыках окровавленные кепи своих убитых товарищей — или цветы, брошенные им женщинами из окон… "Vive la republique!" — кричат с обеих сторон бульвара национальные гвардейцы, как-то дико и уныло протягивая последний слог. "Vive la mobi-i-ile!" Пленные идут, не поднимая глаз и прижимаясь друг к другу, как овцы: нестройная толпа, мрачные лица, многие в лохмотьях, без шапок; у иных руки связаны. А канонада не умолкает. Тяжелое, однообразное буханье так и стоит в вышине; оно повисло над городом вместе с чадом и гарью зноя… Под вечер из моей комнаты в четвертом этаже слышится нечто новое: к этому буханью присоединяются другие, резкие, гораздо более близкие, непродолжительные и как бы веерообразные залпы… Это, сказывают, расстреливают инсургентов по мэриям…»
13
Генерал Луи Эжен Кавеньяк (1802—1857), назначенный военным министром, подавил восстание. Незамедлительно последовал правительственный декрет о высылке всех участников июньских событий из страны. Так же незамедлительно вступила в действие инструкция прокурора Гиацинта Мари Корна о «способах обнаружения инсургентов», которая всем служителям закона рекомендовала особенно внимательно осматривать руки каждого подозрительного человека в поисках следов пороха…
Мэтр Пьер Верн революционные события комментировал сдержанно.
В конце концов, черни тоже понадобятся адвокаты, так считал он. Адвокаты нужны всем — в любые, даже в самые тревожные времена; просто не все могут их прилично оплачивать. Появляясь в Нанте, месье де Шатобур рассказывал мэтру о парижских баррикадах, о перестрелках, о трехцветных, расшитых золотом знаменах, вьющихся над баррикадами; вот ужас, среди них были и красные! При этом месье де Шатобур не забывал отмечать, что он сам и его друзья-художники вели себя в дни восстания именно как художники! Не страшась опасности быть ранеными, даже убитыми, они смело выставляли свои полотна в витринах лавок и салонов, потому что считали — искусство должно принадлежать всем! Это восхищало Жюля. Любой француз имеет право видеть Венеру! «Вот, гражданин, как прекрасна сегодня Франция».