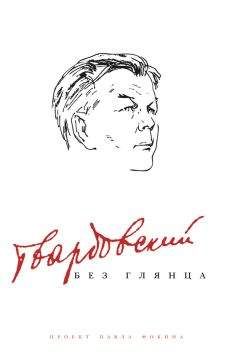Павел Фокин - Маяковский без глянца
Лев Абрамович Кассиль. В записи Григория Израилевича Полякова:
Была «сумасшедшая, дикая впечатлительность», был чрезвычайно чувствителен «к спичке», был очень чувствителен к похвале, мог при этом смутиться. <…> Все окончания нервов были как бы «выведены наружу». Чрезвычайно сильно затрагивал любой мелкий факт и сейчас же действовал очень сильно на его настроение соответственным образом. <…> Очень живо переносил общественное в личное.
Корнелий Люцианович Зелинский:
Я никогда не видел Маяковского плачущим или вконец расстроившимся. Но две женщины, которых он знал, рассказывали мне, что они видели, как он рыдал. Горький (в своих воспоминаниях о том, как Маяковский читал «Облако в штанах») тоже пишет: «разрыдался». А без этого нельзя понять Маяковского. Нельзя понять его сдержанности, его уважения к людям, не позволявшим ему распускаться. Но Маяковский мог и оглушить басом аудиторию и разрыдаться.
Его эмоциональный диапазон был громаден. И вряд ли кто мог понять этот диапазон. «Хотите – буду от мяса бешеный, – и, как небо, меняя тона – хотите – буду безукоризненно нежный, не мужчина, а – облако в штанах».
Вероника Витольдовна Полонская:
Вообще у него всегда были крайности. Я не помню Маяковского ровным, спокойным: или он искрящийся, шумный, веселый, удивительно обаятельный, все время повторяющий отдельные строки стихов, поющий эти стихи на сочиненные им же своеобразные мотивы, – или мрачный и тогда молчащий подряд несколько часов. Раздражается по самым пустым поводам. Сразу делается трудным и злым.
Эльза Триоле:
Мне бывало с ним трудно. Трудно каждый вечер где-нибудь сидеть и выдерживать всю тяжесть молчания или такого разговора, что уж лучше бы молчал! А когда мы встречались с людьми, то это бывало еще мучительней, чем вдвоем. Маяковский вдруг начинал демонстративно, так сказать – шумно молчать. Или же неожиданно посылал взрослого почтенного человека за папиросами, и удивительнее всего было то, что человек обычно за папиросами шел! Почему-то запомнился один вечер, в танцульке, на втором этаже кафе «Ротонда». За нашим столиком было много народа <…>. Володя сидел мрачный, отодвинув стул, а ведь он любил ходить по танцулькам, хотя сам и не танцевал. Я же была молода и танцевать любила. В тот вечер, когда я вернулась к столику после танца, Володя как бы невзначай смахнул на пол мою перчатку. Я ему сказала: «Володя, подними…» Он смахнул и вторую на грязный, заплеванный пол. Не помня себя, я вскочила, выбежала из зала, вниз по лестнице, на улицу. Кто-то бежал за мной, пытался меня догнать, вернуть. Ни за что! С Володей мы встретились на следующий день, оба хмурые, но об инциденте не заговаривали. А когда мы опять попали в дансинг, я назло ему пошла танцевать с профессиональным танцором, приставленным к учреждению. Танцору за это следовало заплатить, и Володя, миролюбиво отпустивший меня с ним, только недоуменно спросил, как же это сделать, как ему заплатить?.. «Дай, и все!» И Володя действительно протянул танцору руку с зажатыми в кулак деньгами и потом успокоенно сказал: «Ничего, выскреб…»
Рассказываю об этих незначительных случаях оттого, что характерна именно их незначительность, способность Маяковского в тяжелом настроении натягивать свои и чужие нервы до крайнего предела. Его напористость, энергия, сила, с которой он настаивал на своем, замечательные, когда дело шло о большом и важном, в обыкновенной жизни были невыносимы. Маяковский не был ни самодуром, ни скандалистом из-за пересоленного супа, он был в общежитии человеком необычайно деликатным, вежливым и ласковым, – и его требовательность к близким носила совсем другой характер: ему необходимо было властвовать над их сердцем и душой. У него было в превосходной степени то, что французы называют le sense de l’absolu – потребность абсолютного, максимального чувства и в дружбе, и в любви, чувства, никогда не ослабевающего, апогейного, бескомпромиссного, без сучка и задоринки, без уступок, без скидки на что бы то ни было…
Осип Максимович Брик (1888–1945), литератор, издатель, теоретик и один из организаторов группы ЛЕФ. Муж Л. Ю. Брик. Друг В. Маяковского:
Маяковский понимал любовь так: если ты меня любишь, значит, ты мой, со мной, за меня, всегда, везде и при всяких обстоятельствах. Не может быть такого положения, что ты был бы против меня – как бы я ни был неправ, или несправедлив, или жесток. Ты всегда голосуешь за меня. Малейшее отклонение, малейшее колебание – уже измена. Любовь должна быть неизменна, как закон природы, не знающий исключений. Не может быть, чтобы я ждал солнца, а оно не взойдет. Не может быть, чтобы я наклонился к цветку, а он убежит. Не может быть, чтобы я обнял березу, а она скажет «не надо». По Маяковскому, любовь не акт волевой, а состояние организма, как тяжесть, как тяготение.
Были ли женщины, которые его так любили? Были. Любил ли он их? Нет! Он их принимал к сведению. Любил ли он сам так? Да, но он был гениален. Его гениальность была сильней любой силы тяготения. Когда он читал стихи, земля приподымалась, чтобы лучше слышать. Конечно, если бы нашлась планета, неуязвимая для стихов… но такой не оказалось! <…> Маяковский был одинок не оттого, что он был не любим, не признан, что у него не было друга. Его печатали, читали, слушали так, что залы ломились. Не счесть людей, преданных ему, любивших его. Но все это капля в море для человека, у которого «ненастный вор в душе», которому нужно, чтобы читали те, кто не читает, чтобы пришел тот, кто не пришел, чтобы любила та, которая, казалось ему, не любит.
Лили Юрьевна Брик. В записи Григория Израилевича Полякова:
Был очень чувствителен к малейшей обиде, фальши, лицемерию и проявлениям других чувств к нему со стороны окружающих. Была как бы обнаженность чувств и впечатлений.
Виктор Андроникович Мануйлов:
Был очень раним, но сдержан и никогда не показывал своей боли.
Николай Николаевич Асеев. В записи Григория Израилевича Полякова:
Мог быть внешне совершенно спокоен при бурности переживаний внутри себя.
Лили Юрьевна Брик:
Маяковский знал себе как поэту цену, но все-таки всегда в нем оставалась неуверенность. Он как никто нуждался в поощрении, похвале, признании и напряженно и подозрительно всматривался в слушателя, когда читал новые стихи.
Он был счастлив, когда я говорила, что ничего в искусстве не может быть лучше, что это гениально, бессмертно и что такого поэта мир не знал.