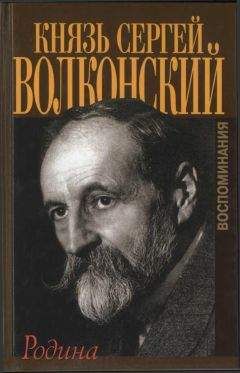Сергей Волконский - Мои воспоминания. Часть третья. Родина
А мой дом, мой белый флигель, наш милый «молочный дом»! Такой несуразный, выкроенный из старого, но такой занятный. Моя спальня наверху; весь верх, в память детства, в память Фалля, разделан под готику тридцатых годов; там все под стать, немножко сухо и очень уютно. Главная комната, та, где балкон, та, над окнами которой башенные часы, — это «николаевская», с портретом Николая I, с портретами и бюстами прадедов. Никто не скажет, что устроено, — всякий подумает, что так перешло в наследство; прабабка спросила бы: «Где моя работа? Я вчера ее здесь оставила». К этой комнате ведет коридор, «сибирский коридор». Тут воспоминания о декабристах: портреты, виды, документы, вещи, бывшие в Сибири. Поучительно; все это говорит, рассказывает: Благодатский рудник, Чита, Петровский завод, Ангара, Амур, виды казематов, дед мой и бабушка в своей камере № 54. Повесть страдания и терпения, высоты и смирения… Все это собрано, развешано в коридорчике, освещенном сверху через солнечное слуховое окно. Все это свежо, бело, только готические стеклянные двери просвечивают пестрыми пятнами средь этой белизны. Как мало кто знает это. Как мало вообще у нас интересуются. Ни разу ни одна школа из города не подумала совершить экскурсию. Ну как же не показать учащимся такой «сибирский музей», не говоря о парке, о деревьях, сельскохозяйственных орудиях и пр. Ну как не дать им прожить два дня среди природы, набрать цветов, наловить насекомых, на сене ночевать… Нет, несчастных детей водили в июле месяце смотреть железнодорожные мастерские!.. А всё классовая рознь, через которую не умеют люди душой перешагнуть.
В нижнем этаже совсем неожиданная комната. Бывший ледник и погреб я превратил в зал. Из коридора пробита арка. Сходите двумя ступеньками на платформу, с которой две лестницы сходят вниз, а направо и налево расходится галерея. Архитектурный план напоминает бассейн для плаванья, а кругом за колоннами ход. Внизу, кругом всей комнаты, полки с книгами и устроена гостиная, мягкая, уютная. Галерея за колоннами огибает весь зал; напротив входной арки, на том конце зала, огромное окно на юг и из него вид на другую, лесную сторону оврага, на Александровский парк, и из деревьев выглядывает белая колокольня церкви. Потолка нет, стропила наружу, как в старых итальянских церквах; от середины крыши до полу десять с половиной аршин. На правой длинной стене два окна на запад; красиво, когда косой луч падает в нижнюю часть зала и под ним красным жаром на круглом столе пылает букет пионов; гостеприимно, когда на том конце зала, под большим окном, на крытом скатертью столе дымится самовар… Эта комната — как гостиная-библиотека, устроенная в трапезной какого-нибудь итальянского монастыря. Из двух боковых окон должен быть вид на итальянский дворик и на итальянский сад — когда они будут, если будут…
В этой зале мы устроили на второй год войны елку для всех служащих. Елка в восемь аршин стояла внизу, подвязанная к стропилу; между колоннами висели доморощенные, в кузнице сделанные люстры. Было чтенье, было пение, были подарки, было веселье… Перед тем за десять дней в той же зале была католическая обедня для пленных; сто двадцать человек пленных стояло внизу, в галерее за колоннами стояли наши «чины и власти». О военнопленных следовало бы мне рассказать, но это составляет такую особенность военного, предреволюционного и революционного времени, что в этих строках, повествующих о деревенском «мирном житии», не место говорить о них. Будет случай…
Я никогда не любил хозяйства; меня всегда больше влекла расходная, нежели доходная статья. С детства я питал отчуждение к хозяйству. Как ни старался отец меня приучить, ему не удалось разохотить меня.
О, эти поездки по хуторам с управляющим. Как я скучал! В жару на дрогах мы ехали. И все, что говорили отец с управляющим, так меня не интересовало и было так далеко от того, что меня интересовало. Говорят о хлебах, о севооборотах, о сдаточных ценах, а я еду, смотрю на поле и любуюсь васильками и даже хлебным врагом — красным куколем. Я восторгаюсь развесистым дубом, а тут говорят о поделках, о распилке. Я не слушаю, что там за моей спиной, на другой стороне старшие говорят, а смотрю перед собой на бесконечные волны бесконечного оржаного поля. Жарко; над лошадьми овода… Истома ложится на природу, обнимает и меня. Очень меня занимает под хвостом у пристяжной потная шлея. Лошадь вальком задевает за рожь, и из спелых колосьев высыпаются зерна на подножку экипажа. Смотрю себе в ноги: подпрыгивают оржаные зерныстки. Они хитрые, они обманули человека; он их хотел взять, смолоть, а они с подножки на землю спрыгнут и дадут ростки. Я слежу за ними, глаз мой их провожает до того мгновенья, когда они прикоснутся к земле. Эта пляска зернышек меня интересует больше всяких хозяйственных разговоров…
Но вот приехали на хутор, подъехали к конторе. О, эти заезды в конторы! Этот приказчик с обручальным кольцом на указательном пальце! Мухи на окнах, премии «Нивы» по стенам, куры на пороге, поросята на крыльце… Эта роковая необходимость конторских книг, ведомостей… Все это я вижу, слышу, но не смотрю, не слушаю. А дома ждет какая-нибудь начатая дорожка, вновь посаженное дерево, картинка, которую столяр вставил в рамку…
Так с детства жизнь делилась на нужное, несносное, и на ненужное, приятное. С детства ощущал враждебную встречу Красоты и Пользы. И только много позднее я понял, что вовсе не стыдно не интересоваться тем, что тебя не интересует. Тут встает и другой вопрос, который между прочим формулировал Шиллер. Он сказал, что о вкусах человека надо судить не по работе его, а по досугам. Только много позднее понял я, что можно вкусы своего отдыха превратить в предмет своей работы. Конечно, не всякие вкусы заслуживают быть превращенными в работу и, с другой стороны, не всякий человек поставлен в такие условия жизни, которые ему позволяют слияние наклонностей и обязанностей. Но кто это может, для того прохождение жизненного пути являет редкое преимущество слиянности, единства и покоя.
Итак, я предпочитал расходную статью доходной. Но никогда мне не казалось, что я расходую на себя, когда расходовал на Павловку. У меня такое было ощущенье, что моя обязанность, мое призвание сделать из Павловки то, что в революционные времена стали называть «культурная ценность».
С крестьянами отношения хорошие. С конторой, с приказчиками, с управляющими они тягаются, но со мной всегда вежливы. В воскресенье утром у меня на крыльце своего рода приемный день. Тот просит «скостить», тот просит «отпустить», у того корова «похарчилась», тому соломки на крышу, тому хворосту на плетень, кирпичей на печку… Трудно иногда бывало разобраться в справедливости и искренности; священник в этих случаях был верным советчиком. Трудно и потому еще, что не нравится снисходительность владельца управляющим: это уменьшает доходность. Но я им говорю: «Ведь вы ставите благотворительность на приход; так о чем же разговаривать?» Есть и такие, что приходят просто посоветоваться, как быть в том или ином случае: дележ, приписка к обществу — вопросы, от которых я далек, но всегда ценил доверие. Особенные случаи воспитания, болезни приводили их ко мне. Одного слепого я взял в Петербург, поместил в приют, из него вышел певчий, и он плел корзины, делал щетки. За это я стал популярен среди слепых. У нас в округе их было довольно много, и, странно, они все на протяжении пяти, шести волостей знали друг друга. Один из них мне сказал, смеясь: «Слепой слепого издалеча видит». В семье Волосковых в деревне Павловке было два брата слепых; третий, зрячий, Егор, служил у нас в доме; редкой преданности человек; он пошел на войну и попал в австрийский плен. Через год вести о нем прекратились. Сколько раз старуха мать приходила просить: «Ну еще разок попытайся написать…»