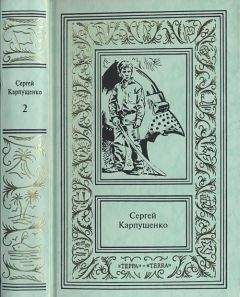А. Диесперов - Блаженный Иероним и его век
Вл. Соловьев, работая над эпохой первых Вселенских соборов, писал из Троицы Н. Страхову:
Да сквозь века монахов исступленных Жестокий спор И житие мошенников священных Следит мой взор, —
этот резкий приговор, к сожалению, оказывается справедливым.
Иероним лучше других сознавал всю глубину падения христианских нравов в его время, и мы находим у него скорбное признание, что рядом с внешними успехами церкви шел моральный упадок ее. "Когда (церковь Христова) стала под властью христиан-кесарей, она сделалась, правда, сильнее могуществом и богатством, но слабее добродетелями".
Но как бы то ни было, с язычеством было почти покончено. Храмы древних богов стояли пустыми. Великая печаль легла на эти остатки великого прошлого. И нельзя читать без тайной грусти ликующих строк Иеронима: "Золоченый Капитолий грязен. Сажею и паутиной покрылись все храмы Рима. Город сдвинулся с оснований своих, и народ, наводнявший раньше полуразвалившиеся капища, устремляется к гробницам мучеников".
Это превращение языческого Рима в христианский кажется еще неожиданнее, если вспомнить, что так недавно была попытка реставрации старого культа. Иероним еще помнил Юлиана, который являлся виновником и душой этой реставрации. "Когда я был мальчиком и учился в грамматической школе, и когда все города снова осквернены были кровью приносимых жертв, вдруг, в самый разгар гонения, принеслась весть о гибели Юлиана. Один из язычников остроумно сказал тогда: Как же христиане говорят, что их Бог долготерпелив и многомилостив. Да Он самый гневный, самый скорый в отмщении своем: даже малое время не мог помедлить Он, чтобы не наказать отступника".
Но не только в этом отношении может удивить нас решительность происшедшего переворота. Успех христианства в таком городе, как Рим, кажется какою-то исторической необъяснимостью еще более в виду внутренних причин и самой среды, в которой происходили события. Казалось бы, сам народ римский, такой исключительно материалистический, трезвый во взглядах своих, веками воспитывавший в себе поклонение плоти и силе, что этот народ не мог найти ничего отвечающего себе в новой религии воздержания и смирения. Иероним писал о Павле: "Почитаемая за плодородие... прежде всего мужем своим, затем близкими и, наконец, мнением всего города и т.д.", — в этом "почитании за плодородие" еще как бы уцелел пережиток былых римских добродетелей, и даже хотя бы одной этой подробности в представлениях римских граждан достаточно, чтобы видеть, насколько дух народа не подходил для усвоения бесплотных совершенств христианства. Недаром такую борьбу с родственными чувствами вел Иероним: "Этот таран семейственной любви, которым потрясается вера, должен быть отражен стеной Евангелия". Он чувствовал здесь исконно-римскую, исконно-языческую черту земной, кровной, крепкой связи, враждебной всякому "не от мира сего".
И какое-то странное зрелище представлял из себя тогдашний Рим, стоящий между двух эпох — своим великим языческим прошлым и неведомым христианским будущим. Причудливое смешение стилей, вер, воззрений должно было останавливать и поражать там на каждом шагу: "Кто поверил бы этому, что правнук консулов, украшение Фурианского рода (речь идет о знатном римлянине Паммахии, принявшем христианство), среди пурпура, в который облечены сенаторы, будет проходить в темной и бедной тунике и не будет краснеть под взорами товарищей по званию, а сам посмеется над осмеивающими его. — Есть стыд, что ведет к смерти, и есть стыд, что ведет к жизни". Или другой случай, еще более любопытный: "Возможно ли было думать, что у языческого понтифекса Альбина родится внучка, обреченная Богу обетом матери; что в присутствии обрадованногоо деда нетвердый язычок малютки уже будет выговаривать Христово "аллилуя"; что старик в лоне своем воспитает деву Божию", и дальше о том же Альбине Иероним замечает: "Думаю, будь он юношей, он и сам бы поверил во Христа, имея такое родство". Эразм предложил другое, более остроумное чтение этой цитаты: "Думаю, на его месте сам Юпитер сделался бы христианином".
Вообще — "язычество даже в Риме теперь ощущает как бы пустыню. Некогда боги народов остались с совами и филинами на пустых крышах. Значками легионов является знамение креста. Порфиры царей и горящие камни диадем украшает изображение спасительного древа распятия. Уже египетский Серапис сделался христианином (намек на разгром Серапеума.— А. Д.). Марна плачет, запертый в Газе, и с трепетом ждет каждую минуту разрушения храма. Из Индии, Персии, Эфиопии ежедневно нам приходится принимать толпы монахов. Арминий сложил свой колчан. Гунны изучают Псалтирь. Скифские морозы согреваются пламенем веры. Красноволосое и белокурое войско гетов носит с собой в походы палатки-церкви, и, может быть, потому они и сражаются против нас с равным успехом, что исповедают ту же религию". И в других местах мы встречаем подобные же (несколько преувеличенные в своем красноречии) свидетельства Иеронима о торжестве христианства во всех странах известного тогда мира. "О бессмертной душе, остающейся после разрушения тела, о чем бредил Пифагор, воо что не верил Демокрит, по поводу чего рассуждал в темнице Сократ ради своего утешения — теперь об этом философствует Индиец, Перс, Гот и Египтянин. Дикие Бессы и толпы народов, облеченных в звериные шкуры, которые раньше на тризнах умерших приносили человеческие жертвы, теперь свой грубый голос смягчили до тихих молитв, и слово "Христос" является общим звуком всего мира". "Кто поверил бы, что варварский язык гетов будет заниматься еврейскими текстами, и самая Германия, когда греки спят или пренебрегают ими, будет исследовать изречения Святого Духа. Рука, не так давно покрытая мозолями от рукояти меча, и пальцы, более приспособленные для метания стрел, смягчились для стиля и писчей трости.
Воинственные сердца восприняли кротость христианскую"• Последние слова интересны еще косвенным свидетельством о чисто цивилизаторской роли христианства: оно всюду несло с собою письменность для принимавших его народов.
Успеху христианства способствовала, между прочим, своеобразная, несколько военная тактика иных духовных вождей. Со времени Феодосия Великого началось усиленное разрушение памятников язычества (и древней культуры — заметим кстати). Предпринимались целые благочестивые походы с целью истребления идолопоклоннической скверны, и самый выдающийся подвиг вандализма, по странной случайности, выпал на долю друга Иеронима. Мы имеем в виду Феофила, епископа Александрийского, разрушившего знаменитый храм Сераписа. Вместе с ним погибла и единственная по обширности Александрийская библиотека — драгоценнейшее книгохранилище древности. "Мы видели книжные шкафы, которые, после разграбления книг стоят пустыми и напоминают о наших временах и нравах",— писал Орозий. Вооруженная сила употреблялась не только против неодушевленных предметов; приходилось сражаться не с одними идолами, но и с еретиками. Тот же Феофил известен деятельным и энергичным истреблением оригенистов в Нитрийской пустыне, о чем он и сообщал Иерониму скромно, но с достаточной выразительностью: "Некоторые негодные и мятежные люди, жаждавшие посвятить и основать в монастырях Нитрии ересь Оригенову, подрезаны серпом пророческим. Потому что вспомнили мы слова апостола, говорящего: Обличай их сурово".