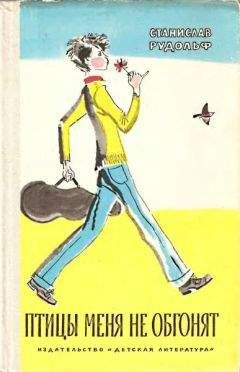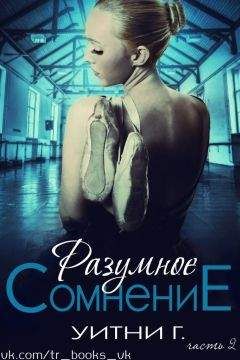Рудольф Андреев - Воспоминания о Карибском кризисе
А Плиев то ли дворик мой запомнил, то ли характеристики начитался, то ли что. Приходит, короче, обратно, моё прошение, а поперёк него резолюция:
«Я с этим сержантом ещё послужу».
Ну, я охуел совсем.
Комбат меня успокаивает. Предлагает сверхсрочником остаться, чтобы зарплата шла хотя бы:
— Будешь, — уговаривает, — отсюда семье помогать.
А я всё. Не могу больше. Только домой. Думаю: «Да на хуй вас всех. Через дурдом попробую».
Дурдом
Мы с приятелем Васей долго вынашивали идею в дурдом попасть.
Из нашей части ребята периодически попадали в Гавану в госпиталь, понимаешь. Некоторые по болезни, некоторые по изобретательности. Ну, придумывали себе болезни. Там же довольно вольная была организация, в этом госпитале. Можно было выйти и даже в бардак успеть. Вася мой в Гаване с больным желудком как-то лежал. Один раз сходил в этот бардак — сразу все его песо закончились.
Потом, очень многие же подхватили венерические заболевания, особенно среди офицеров. Сначала этих заболевших в Союз отправляли. А потом смотрят: ё-моё, это явление может повальным оказаться. Некому будет революцию защищать! И перестали комиссовать венерических. Пошли зато слухи, что психических шлют домой. Якобы из наших один пожаловался на голову и сразу под комиссию попал.
Вот я и загорелся после плиевской резолюции.
Предварительно сходил на разведку. У меня же слизистая была рассечена изнутри губы. И губа всё время оттопырена. Я прихожу к хирургу нашей части:
— Можно, — спрашиваю, — губу мне подтянуть?
Он говорит:
— Видишь, тут влажность и жара какая? Высокая опасность инфекций. Заживать будет долго. Жди до Союза — там холодно.
Короче, терпи.
Тогда я по существу:
— А ещё вот, — говорю, — мне не сдержать свои эмоции агрессивные. Если кто приказ не выполняет, у меня сразу шум в голове и в глазах темнеет. А потом нервный тик начинается.
А я же пиздюлей такое количество уже надавал, что и сам не рад, понимаешь. Мне и выдумывать ничего не надо.
Врач говорит:
— Нууу, запишись на приём в Гавану к невропатологу или психиатру.
Записался.
Прямо накануне поездки в Гавану съездил в очередной раз на холодильник, где мы жратву получали. Всю ночь потом сидели, чифирили.
Утром приходит микроавтобусик. Сели. Вентиляция херовая, жарко, душно. Вся машина забита солдатами. Какая-то женщина ещё была, помню.
Едем. Я твержу:
— Мне плохо. Мне плохо. Мне плохо.
Раскачиваюсь всё время внутри этого микроавтобусика и «мне плохо, мне плохо». И тут, блядь, как по Станиславскому: мне действительно начинает делаться плохо. Вспотел, дышать трудно. Таблетку мне какую-то суют. А уже к Гаване подъезжаем. Парни все смотрят в окошки. Я никуда не смотрю. Раскачиваюсь целенаправленно:
— Мне плохо. Мне плохо.
А там, уже на территории Гаваны, что-то вроде бухты вдаётся в сушу, и тоннель длинный — километра два, если не больше. Вот в этот тоннель когда стали въезжать, со мной началась истерика. Меня начало колотить. Тут же меня завалили на лежак, какой-то разъебай сел на меня сверху. Включили сирену и прямо в госпиталь, в приёмный покой. Как будто даже по рации позвонили туда в крыло психиатрическое.
В выписке у меня потом было написано: «госпиталь имени Твардовского». Строили его сначала вроде американцы, потом чехи, а достраивали чуть ли не китайцы. Этажей семь-восемь. Над морем возвышается. Музыка всё время играет, каждый этаж окрашен в свой цвет, и на каждом этаже больные одеты в свой цвет. Материя типа сатиновой, тонкая такая. Вид на море сквозь сетки на окнах.
Персонал был и наш, и кубинский. Помню, когда меня только привезли, одна медсестра-кубинка мне всё улыбалась. Показывает на себя:
— Эстрея!
«Звезда», значит. Меня трясёт всего, а они отвлечь меня пытаются:
— Смотри! Смотри, какая Эстрея красивая!
В общем, осмотрели меня и на этаж повели. Четвёртый, наверное. Без носилок — просто двое сопровождающих. Подходим к двери этажа, а там два негра здоровых стоят с автоматами. Короткие такие автоматики, чешские, типа израильского «узи». Заходим на этаж — ё-моё, там ещё один с автоматом!
Потом-то мне объяснили, что два контрика на этаже. Они целую семью вырезали, поэтому и охрана была усиленная. Но сначала я сильно перепугался.
— На хер лечение! — кричу. — Желаю быть здоровым! Я вообще уже здоровый!
Но уже по-русски со мной никто не разговаривает. Всё уже. Назвался груздём.
Я беременная женщина
Зато захожу в палату — мне навстречу:
— Рудька, ты?!
Смотрю и узнаю разъебая того самого, про которого говорили: «он уже в Союзе».
Он шустрый такой, маленький, но крепкий. Забегал вокруг меня:
— Рудька, заходи-заходи, тебе тут место хорошее, всё чики-чики! Щас дама придёт, и обмоем!
А он уже с дежурными медсёстрами знаком. Идёт и сообщает: мол, побриться надо, или что там. Медсестра макает кусок ваты в спирт и даёт ему, а он эту вату в стакан выжимает.
Развели водой, поддали. Он рассказывает:
— Ничего-ничего, не беспокойся. Здесь жить можно. Кормят хорошо.
Я говорю:
— А как домой-то?
— Дааа, вот с этим не очень…
Не светит, короче.
В палате было ещё три человека. Один старший лейтенант, откуда-то с Киева. Кончил мединститут, и призвали его в армию. А он сугубо гражданский, ему эта армия на хер не нужна, он только свалить мечтает. И косит по-чёрному. Чтобы в дурдом попасть, открыл огонь из пистолета поверх голов. Светильники разбил какие-то, старших офицеров напугал.
Завотделением наш, Владимир Ильич, подполковник медицинской службы, хочет этого лейтенанта на чистую воду вывести и засудить за симулянтство. А у того специальность как раз с психиатрией связанная. Он в институте на отлично учился, все симптомы знает наизусть. Не подловить его. Ему деваться некуда: или диагноз, или трибунал.
Меня этот лейтенант тоже осмотрел.
— Да, — говорит. — Психика у тебя немножко взвинчена. В стрессовом состоянии всё время находишься. Будет Ильич тебя осматривать, говори вот так…
В общем, расширил мне диапазон говорения.
Ещё кубинец у нас был. Симпатичный такой парень, жизнерадостный. Мы с ним подружились. Общались каким-то образом. Помню, он рассказывал мне, как он видит светлое будущее коммунистическое:
— Коммунизм, — говорит, — это мучо-мучо комер, мучо-мучо дормир и поко-поко трабахар.
Много есть, много спать и мало работать, короче.
Наши медсёстры ему нравились. Там же жара, они все ходили в халатах на голое тело. Всё просматривалось со всех сторон. Он воспылал сразу же.
Спрашивает меня: как, мол, в любви объясниться по-русски?
Я ему:
— Повторяй за мной: «Я — беременная — женщина».