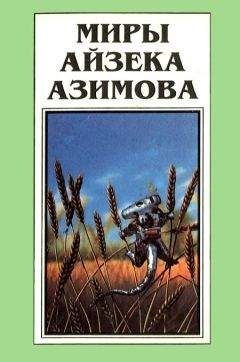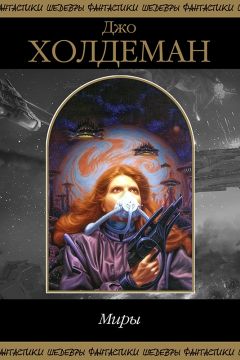Дмитрий Щеглов - Любовь и маска
Маленькое лицо Евгении Николаевны окаменело, потом губы ее затряслись, а на следующий день, тщательно напудренная, она уже сидела за роялем, со снисходительным обожанием взглядывая на неудачливого игрока.
— Вот видишь, Женечка, — говорил Петр Федорович, одной фразой распахивая дверь новой эпохи, — хорошо все же, что я успел проиграть эти злосчастные имения, которые у нас теперь все равно бы отобрали!
Понятно, что сказано это было уже после переворота 17-го (затем повторялось неоднократно), в январе следующего года (по старому летосчислению). Любочке исполнилось шестнадцать — была она на три года моложе своей сестры и, как указывала спустя тридцать лет в своей машинописной автобиографии, родилась в 1902 году в семье служащего какого-то учетного ведомства, «после революции перешедшего на работу в РКА» — слева на полях против этих и без того более чем скупых строк имеется пометка: «Надо ли?»
Надо ли объяснять, в какое время это писалось? Что пятнадцать лет жизни, стоящие за этой сделанной рукой Орловой пометкой, могли бы потребовать слишком громоздких и неудобосказуемых сносок и комментариев? Что Петр Федорович совсем не сразу перешел на работу в РКА, а жил какое-то время с семьей в имении Сватово, собственно уже переставшем быть имением, а превратившемся во что-то вроде запущенной подмосковной дачи, в место спасения от городской смуты. В какой бы растерянности ни пребывал этот человек, каждое утро его видели в роскошной шелковой куртке с золотыми кистями, подтянутого, улыбчивого, «в одеколоне», пытавшегося не относиться всерьез к чему бы то ни было — невнятице времени, недоеданию, нервозности Евгении Николаевны, к тому, что дочери, вынужденные забросить музыку, превращались в молочниц — сватовские коровы, спасшие семью от голодных обмороков, в конечном счете и определили судьбу старшей, Нонны.
По утрам, залив бидоны молоком, сестры отправлялись в город, благо Сватово располагалось совсем недалеко от Москвы. От тяжести бидонов суставы краснели, распухали — у Любочки это осталось на всю жизнь; и с того времени руки Орловой всегда выглядели старше ее самой — она не любила их, прятала, — у вас нет ни единого шанса разглядеть их в кадре.
На Божедомке, там, где теперь находится Театр армии (чью форму пятиконечной звезды способны оценить разве что небеса, а смертным пешеходам он предстает в виде абсурдного нагромождения каких-то выступов, балкончиков и колонн), располагались крохотные деревянные переулки. Несколько живших в этом районе семей и были клиентами сватовских молочниц.
Сестры Орловы несли молоко в Орловский тупик — в этом было что-то назойливо символическое, «говорящее»; тем не менее такой тупик действительно значился на картах тогдашней Москвы.
В тупике находился дом известного в то время краснодеревщика Веселова — мрачноватого вздорного человека, со всем своим многочисленным семейством еще кое-как удерживающегося на плаву относительного благополучия. Один из его сыновей — Сергей, во многом перенявший характер отца, — готовился к приходу молочниц особенно тщательно. Высокий и несколько угрюмый красавец, менее всего интересовавшийся ремеслом отца, он с разрешения сурового родителя в один из дней предложил сестрам чаю; в другой раз чай как-то незаметно слился с незамысловатым обедом; было очень тихо, чинно и неуютно. А через какое-то время, придав своему лицу драматическое выражение, Сергей буквально на несколько минут задержался возле лестницы с Нонной — худенькой, трепетной Нонной, которая так выгодно Отличалась от полноватой и, в общем, довольно простенькой на вид Любочки, ждавшей ее во дворе, на теплом апрельском ветру.
Было условлено, что в следующий раз сестры дадут концерт: Люба — вокал и рояль, Нонна — скрипка, одна из дочерей Веселова тоже на чем-то играла. Когда тебе около двадцати, революции и перевороты воспринимаются служебным фоном собственной влюбленности, тем более что май — теплый, а лето — раннее, и после одного из концертов, замешкавшись, замолчав (говоруном он так и не стал), Сергей почувствовал, что больше не скажет ни слова, и тут же сделал Орловой предложение.
Это был странный брак. Это был дикий брак. Еще пару лет назад Евгения Николаевна сказала бы, что ни за что его не допустит. Теперь ей оставалось лишь сжимать руки и молчать.
Жених произвел на нее неприятное впечатление своей настороженной молчаливостью и странным выражением постоянного недовольства в глазах.
— Господи, о чем вы хоть с ним говорите? — спрашивала она Нонну, и та старательно вспоминала — действительно, о чем?
Это был на редкость молчаливый брак. Словно сам факт его заключения послужил сигналом какому-то необъяснимому обету молчания — только одному и способному продлить брак во времени.
И с точки зрения времени этот брак оказался недолгим.
С тех пор с музыкой для Нонны Орловой было покончено. В доме Веселовых (хоть и устраивались Там время от времени импровизированные концерты), удерживались некие патриархальные порядки. Практически же это выражалось в постоянной атмосфере какого-то едва сдерживаемого раздражения и беспокойства, всегда способного обернуться скандалом или серией мелких придирок. Сын оказался похожим на отца. Его только еще начинавшаяся инженерная карьера (вполне состоявшаяся в будущем) погружала жену в тягучее месиво тогдашнего быта; кроме того, постоянные переезды с места на место, неустроенность — их дочь (тоже Нонна) подолгу жила в семье младшей сестры, с Евгенией Николаевной и Петром Федоровичем. Муж хотел одного: чтобы жена сидела дома и варила щи. Она и варила эти бесконечные жирные щи, от одного упоминания которых бросало в дрожь Евгению Николаевну.
Она, Нонна, была очень молодой, и она любила Сергея какой-то особой, сугубо отечественной разновидностью этого чувства, когда жена не способна ни смягчить нрав мужа, ни раствориться в нем без остатка. Оставаясь собой, она приняла судьбу, и в этом не было ни малейшего надрыва, скорее напоминало какую-то не смертельную, но и неизлечимую болезнь или пожизненный траур, сигнализировавший младшей сестре: в эту сторону не, ходить, это не твое. Вряд ли Любочка понимала смысл этих сигналов, скорее это было просто отталкиванием от опыта сестры из чувства самосохранения; тщеславию же пока отводилась должность статиста, участника бессловесной массовки — театральный лексикон в данном случае заполняет пробел, насыщенный смутными и довольно приблизительными мечтаниями.
Попросту говоря, она не знала, что делать. И никто из близких этого не знал. Учеба в Московской консерватории по классу рояля (у профессора А. П. Островского и К. А. Киппа) дала ей не ослепительно залитую сцену и сольные концерты, а темный прокуренный зал кинотеатра со скверным, почти невидимым для зрителей роялем. Единственная музыкальная надежда семьи зарабатывала тем, что сопровождала своей игрой фильмы. Директор кинотеатра изводил ее тем, что любил, подойдя сзади, дотронуться до руки, чуть повыше локтя. Она вздрагивала, улыбаясь отнюдь не самой кинематографической улыбкой, — надо было работать, работать, — большая часть денег шла на учебу в балетном техникуме Луначарского. Вряд ли она в то время рассчитывала стать актрисой, и это умение требовало какого-то продолжения, — какого? — она не очень понимала. Не всегда зная, что надо делать, она чувствовала, чего делать не следует. Ломиться в закрытые двери, за которыми во всю мощь звучала классическая музыка, она больше не собиралась.