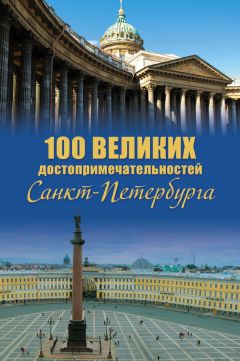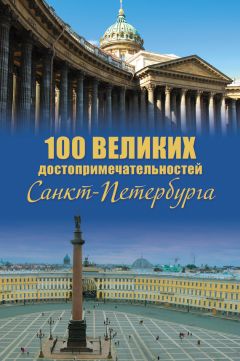Сергей Колбасьев - Джигит
- С Плетневым? Конечно. Он у нас был инструктором в миниом кабинете. Помогал Лене Грессеру.
Зачем он это спросил? Может быть, что-нибудь подозревал или просто хотел узнать, как теперь следовало себя с ним держать?
Но Константинов ограничился кивком головы. Снова раскрыл свою книжку и сказал:
- Будьте другом, пришлите мне с вестовым мою трубку. Я ее забыл у себя на столе.
- Есть, сейчас же. - И Бахметьев по трапу сбежал на палубу.
Шел в корму быстрым и веселым шагом и смотрел на обгонявшую его еще более быструю волну. Встретив вестового у кают-компанейского люка, передал ему поручение командира и стремительно спустился вниз. Но, войдя в свою каюту, вдруг ощутил непреодолимое желание спать.
В сущности, желание это было вполне законным. За всю ночь он продремал всего лишь часа полтора, а взрослому человеку полагается побольше.
Снимая китель и ботинки, Бахметьев понял, что сон - это самое чудесное из всего, что случается в жизни. На редкость приятное занятие, которое предстояло ему именно сейчас.
Лег, закрыл глаза и старался ни о чем не думать. За него думали другие на мостике. Ощущал приятную равномерную тряску и покачивание, прислушивался к успокаивающему шуму корабля на ходу, Был совершенно счастлив, но постепенно заметил, что не засыпает и, вероятно, не заснет.
Скорее всего, из-за дикой духоты в каюте. Рядом был буфет, и на переборке с той стороны висел паровой самовар. Тонкий свист пара доказывал, что вестовые запустили его" к ужину, и теперь он на полный ход помогал июньскому солнцу.
Прохвосты кораблестроители не могли привесить его хотя бы на переборке, выходящей в коридор! Небось никому из них не пришлось лежать вот на этой койке и обливаться потом.
Первое, что Бахметьев увидел, раскрыв глаза, был портрет Нади. Маленький портретик в круглой рамке красного дерева, который она потихоньку подсунула ему в чемодан, когда он уезжал.
Она была очень хорошей девочкой, но на этом портрете улыбалась довольно глупо. И вообще, что могло получиться из их брака? Пока что получилась одна сплошная нелепость, и он даже не мог сказать, поспеет ли вернуться к тому времени, когда должен быть ребенок. Кажется, он был прав тогда, давно, несколько месяцев тому назад, когда считал, что брак несовместим с морской службой.
Может быть, так же думал и Константинов, на всю жизнь оставшийся холостяком, и механик Нестеров, который тоже не женился.
Из всей кают-компании, кроме него, женат был только один Гакенфельт. Впрочем, этот женился не зря, а на какой-то племяннице морского министра. И тоже ошибся, потому что министр вылетел вместе со всем старым режимом. А теперь, судя по рассказам Аренского, бедняга своей жены просто видеть не может.
А он все-таки очень хотел бы увидеть Надю. И вдруг Бахметьев поймал себя на том, что будто кого-то постороннего убеждает в своей любви к жене.
Чтобы успокоиться, попробовал представить себе ее - со вздернутым носиком и круглыми плечами, с тяжелыми косами мягких волос.
Но вместо нее неожиданно увидел сквозь стенки каюты гладкое море, масляный блеск горячего воздуха над горизонтом и напряженные спины наблюдателей на мостике.
Сейчас что-то должно было случиться, Может быть, враг был уже совсем рядом. Даже, наверное, готовился нанести удар.
Какой-то чужой человек с сухим лицом и веселыми глазами посматривал в перископ и, улыбаясь, рассчитывал свою атаку. Рядом с ним стояли другие, тоже довольные, что подстерегли добычу.
Успеют заметить с мостика или не успеют? Там стоит Степа. Можно прохлопать.
И вдруг звонок забил сплошной, бесконечной дробью. Сначала глухо и издалека, потом резче и громче, совсем рядом, в кают-компании. Это была боевая тревога.
Бахметьев вскочил с койки, натянул ботинки, набросил китель и схватил фуражку. Застегивался уже на ходу и дрожащими пальцами никак не мог нащупать пуговиц. По палубе бежал в толпе людей и никак не мог избавиться от самого настоящего страха.
Однако на мостике увидел Гакенфельта с секундомером и Константинова, прогуливающегося взад и вперед, заложив руки за спину.
Тревога была проверочной.
9
Изо дня в день одно и то же.
Рейд Куйвасто с миноносцами на якорях, у берега старая шхуна без мачт в качестве пристани, а подальше зеленые рощи и кое-какие домики.
Или море, пустое и неподвижное, острова, приподнятые рефракцией над дрожащей линией горизонта, и нестерпимый блеск расплавленного стекла.
Дозоры ломаными курсами взад и вперед, в пределах одного и того же квадрата: сдашь вахту, а через девять часов снова ее принимаешь на том же самом месте. Высматриваешь и ждешь, хотя и знаешь заранее, что ровно ничего не случится.
Снова стоянки на рейде. Такие же систематические и бесцельные, в конце концов сводящиеся к простому обмену любезностями, налеты неприятельской авиации.
В синем небе два-три самолета, а вокруг них мягкие шарики шрапнельных разрывов. Нарастающий вой летящих бомб. Чувствуешь, что она непременно ляжет вот сюда, прямо к тебе на палубу, а потом видишь вполне безвредный и даже очень красивый водяной столб далеко в стороне.
В первый раз сильно волнуешься, но и в следующие налеты никак не можешь привыкнуть к бомбам, - слишком у них неприятный звук, и все-таки неизвестно, черт их знает, куда они лягут.
И вдобавок действует на нервы закон Ньютона, ибо в силу его все предметы, выстреленные вверх, неизбежно падают обратно вниз. Предметов же этих, а именно шрапнельных пуль и пустых стаканов, очень много, все они достаточно твердые и тяжелые и все отчаянно свистят.
Впрочем, к обеду налеты обычно заканчиваются. Остается только жара, вялость и неважный аппетит. А суп подают сильно перченным, потому что мясо на транспортах приходит в не слишком свежем виде.
С этими же транспортами приходят тоже несвежие газеты с нескончаемыми разглагольствованиями Александра Федоровича Керенского и всякой прочей мутью, О них, по возможности, не говорят, и только самоуверенный Аренский по утрам бестактно острит:
- Здрасте, здрасте, стоим в Куйвасте без твердой власти.
Или в тридцатый раз смакует одну и ту же пошлятину:
- Интернационал - это когда на русских кораблях под занзибарским флагом в финляндских водах на немецкие деньги играют французский гимн.
Все это в достаточной степени противно, особенно механику Нестерову, но остановить Аренского нельзя. Он всегда изощряется в отсутствие Алексея Петровича, а Гакенфельт его остроты одобряет.
Походы, стоянки и походы, но дела, в общем, гораздо меньше, чем казалось поначалу, и гораздо больше времени для размышлений, далеко не всегда приятных.