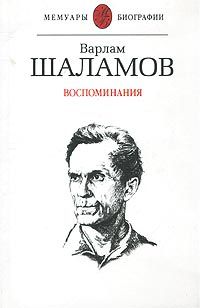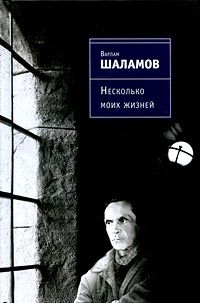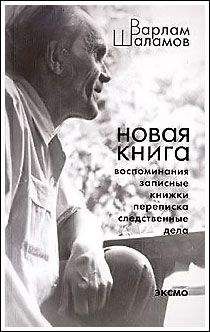Варлам Шаламов - Воспоминания
А. М. Горький написал из Сорренто письмо в адрес Воронского, редактора «Красной нови», требуя оградить свое имя от оскорблений подобного рода.
В это время шли переговоры о переезде Горького на постоянное жительство на родину… В ответном письме Воронский заверял Горького, что Маяковский будет поставлен на место, что повторений подобного «ерничества», как выразился Воронский, больше не будет.
На первой читке поэмы «Хорошо!» в Политехническом музее народу было, как всегда, много. Чтение шло хорошо, аплодировали дружно и много. Маяковский подходил к краю эстрады, сгибался, брал протянутые ему записки, читал, разглаживал на ладонях, складывал пополам. Ответив, комкал, прятал в карман.
Внезапно с краю шестого ряда встал человек — невысокий, темноволосый, в пенсне.
— Товарищ Маяковский, вы не ответили на мою записку.
— И отвечать не буду.
Зал загудел. Желанный скандал назревал. Казалось, какой может быть скандал после читки большой серьезной поэмы? Что за притча?
— Напрасно. Вам бы следовало ответить на мою записку.
— Вы — «шантажист»!!
— А вы, Маяковский…
Но голос человека в пенсне потонул в шуме выкриков:
— Объясните, в чем дело! Маяковский протянул руку, усилил бас:
— Извольте, я объясню. Вот этот человек… — Маяковский протянул указательный палеи в сторону человека в пенсне. Тот заложил руки за спину. — Этот человек — его фамилия Альвэк. Он обвиняет меня в том, что я украл рукописи Хлебникова, держу их у себя и помаленьку печатаю. А у меня действительно были рукописи Хлебникова: «Ладо-мир» и кое-что другое. Я все эти рукописи передал Роману Якобсону (в Московский лингвистический кружок). У меня есть расписка Якобсона. Этот человек преследует меня. Он написал книжку, где пытается опорочить меня.
Бледный Альвэк поднимает обе руки кверху, пытаясь что-то сказать. Из рядов возникает неизвестный молодой человек с пышными русыми волосами.
Он подбирается к Альвэку, что-то кричит. Его оттесняют от Альвэка. Тогда он вынимает из кармана небольшую брошюрку, рвет ее на мелкие куски и, изловчившись, бросает в лицо Альвэку, крича: — Вот ваша книжка! Вот ваша книжка! Начинается драка. В дело вмешивается милиция та самая, про которую было только что читано:
Розовые лица,
Револьвер желт,
Моя милиция
Меня бережет, —
и вытесняет Альвэка из зала.
На следующий день в Ленинской библиотеке я беру эту брошюру. Имя автора — Альвэк. Название — «Нахлебники Хлебникова». В книге помешено «Открытое письмо В. В. Маяковскому», подписанное художником П. В. Митуричем…
Автор письма требует, чтобы Маяковский вернул и обнародовал стихи Хлебникова — те многочисленные рукописи, которые он, Маяковский, захватил после смерти Хлебникова и держит у себя.
Кроме «открытого письма», есть нечто вроде анализа текстов, дающих автору право обвинять Маяковского и Асеева в плагиате.
У Хлебникова: «Поднявшие бивень белых вод» (так у Альвэка).
У Асеева:
Белые бивни
бьют
в ют.
(Черный принц)
У Маяковского:
И скоро,
дружбы не тая,
бью по плечу его я…
У Хлебникова: «Хватай за ус созвездье Водолея, бей по плечу созвездье Псов».
Плагиат Маяковского явно сомнителен. Да и Асеева. Не такое уж великое дело эти «белые бивни», чтобы заводить целый судебный процесс.
Конечно, Маяковский был нахрапист, откровенно грубоват, со слабыми противниками расправлялся внешне блистательно. Во встречах же с такими диспутантами, как Полонский, терялся, огрызался не всегда удачно и всегда с большим волнением.
Не думаю, что Маяковский заботился о «паблисити», о рекламе. Искреннее волнение было на его лице, в его жестах. «Публика» первых рядов не была его судьей. В первых рядах рассаживались обычно или литературные враги, или «чающие скандала». Маяковский протягивал руки к галерке, к последним рядам.
Взаимная «амнистия» друзей, захваливание друг друга было тогда бытом не только лефовцев, но и любой другой литературной группы.
Я искал стихи Маяковского, Асеева, Хлебникова в ранних изданиях, в первых изданиях. С волнением брал в руки зеленый альманах «Взял», рогожную обложку «Пощечины общественному вкусу». Мне хотелось понять, как выглядели эти стихи в тот день, когда журнал, книга вышли из печати.
В Ленинской библиотеке в то время можно было держать за собой выписанные книги сколько угодно. Гора футуристических альманахов все росла — до дня, когда в библиотеке со мной заговорили две девушки. Узнав, что я интересуюсь футуризмом и Лефом, девушки эти пригласили меня в литературный кружок, которым руководил Осип Максимович Брик. В ближайший четверг я пришел в Гендриков переулок и остановился у двери, на которой были прикреплены одна над другой две одинаковые медные дощечки, верхняя: «Брик», нижняя: «Маяковский».
«Занятия» кружка меня поразили. Все вымученно острили, больше всего насчет конструктивистов. Брик поддакивал каждому. Наконец шум несколько утих, и Брик, развалясь на диване, неторопливо начал:
— Сегодня мы собирались поговорить о станковой картине. — Он задумался, поблескивая очками. — Впрочем… моя жена недавно приехала из Парижа и привезла замечательную пластинку «Прилет Линдберга на аэродром Бурже после перелета через Атлантический океан». Чудесная пластинка. — Завели патефон. — Слышите? Как море! Это шум толпы. А то мотор зарокотал. Слышите выкрики? А это голос Линдберга.
Пластинка, безусловно, заслуживала внимания. В таком роде были и другие занятия «Молодого Лефа».
В тридцать пятом году написал я воспоминания о Маяковском, предложил в «Прожектор». Потребовалась виза. Визировали тогда материал такого рода или Л. Ю. Брик, или О. М. Брик. В Гендриковом был Музей Маяковского. Я нашел новый адрес Брика в Спасопесковском. Записал новый его телефон, позвонил… О. М. меня узнал, поблагодарил за написанное, обещал посмотреть и визировать. В тот же час я отправился на Арбат, в Спасопесковский. Жил Брик в новом каменном доме. На дверях его новой квартиры снова были две одинаковые медные дощечки. Сердце мое застучало. Я подошел ближе. Да, дощечка Брика была той же самой, а другая была новая, по формату дощечки Маяковского из Гендрикова. Но на ней была вырезана тем же шрифтом другая фамилия — «Примаков».
Лиля Юрьевна и Осип Максимович жили на квартире Примакова. Мне это не понравилось. Почему-то было больно, неприятно. Я больше в этой квартире не бывал.