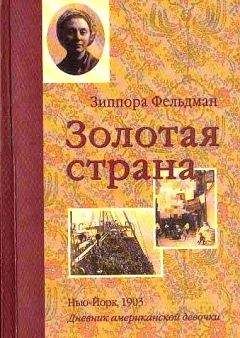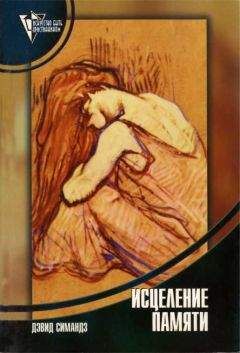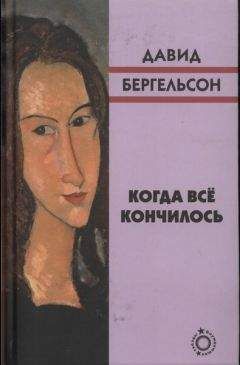Дэвид Роскис - Страна идиша
А мне вернуться домой с победным трофеем удалось лишь в 1993 году — тридцать шесть лет спустя, ни много ни мало. Я тогда преподавал в Москве. В синагоге в Марьиной роще, где мы молились каждую субботу, я обнаружил кипу книг на иврите и идише. Куда же еще, как не сюда, было советским евреям относить старые ненужные книги — в единственную настоящую синагогу в Москве в последние семьдесят лет. Сфорим[67] были значительно старше книг на идише, а их рваные переплеты настолько походили друг на друга, что после двух недель поисков я сдался, но мой друг Йейл Рейснер не прекратил «раскопок» и наконец наткнулся на жемчужное зерно — пасхальный махзер Бейс Исроэл — «Дом Израиля» — и еще один молитвенник для праздника Швуэс, изданные «Печатным домом» Маца в 1911 году. Первым делом я принялся листать книги, обнаружил благословения, которые произносятся при открытии ковчега и выносе Торы, перевернул страницу — и там, увы, моим глазам предстала набранная крупным шрифтом молитва за здравие Царя, Царицы и Цесаревича — в целости и сохранности.
Я не посмел выдать свое разочарование, боясь обидеть Йейла, который на следующий день снова вернулся сюда со мной, чтобы просить раввина Лазара[68] сделать исключение из строгого правила, запрещавшего уносить книги. Благодаря Йейлу я получил оба молитвенника в обмен на скромное пожертвование.
Если бы это был бух, цель которого — лишь доставить удовольствие читателю, я бы соврал: рассказал бы, что той самой страницы ни в одной из книг не было, вернулся бы триумфатором в Монреаль и был бы награжден маминой любовью, даже большей, чем заслужила моя сестра. И кто оказался бы умнее? А когда бы потребовались доказательства, я бы мог вырезать изобличающую страницу, и моя история, сколь бы длинной она ни была, завершилась бы ко всеобщему удовлетворению.
Но титульная страница открывает нам гораздо больше, чем может показаться с первого взгляда.
В полете из Москвы домой я обнаружил некую особенность, объединявшую оба спасенных молитвенника. На обложке были указаны не только имена Фрадл Мац и Исроэла Вельчера. Их предваряло имя Александра, сына покойного печатника Юды-Лейба Маца, да будет благословенна его память. Меня не было в Нью-Йорке уже целый семестр — и поэтому я не мог тут же полететь в Монреаль, так что загадка оставалась неразгаданной еще два месяца.
«Смотри, что я привез из Москвы», — почти прокричал я, демонстрируя находку, и, чтобы скрыть свое разочарование наличием в махзере той самой злополучной страницы, я значительно преувеличил размеры книжных залежей синагоги в Марьиной роще. Я получил то, что хотел, — широкую улыбку: она была и вознаграждением за сувенир, и знаком прощения за столь продолжительную разлуку с мамой. Когда я, как бы между прочим, спросил маму, как случилось, что имя Александра попало на обложку, она неожиданно сильно разволновалась.
«Да, — сказала она, сердито намазывая себе маслом кусок черного хлеба, — это произошло примерно в те годы». Мама долго болела и только начала приходить в себя после скарлатины, голова все еще была как в тумане, как вдруг до ее ушей из гостиной донеслись страшные крики. Фрадл передвинула мамину кровать, чтобы ребенок всегда был в поле ее зрения, поэтому и маме хорошо было все видно. Старший сын Фрадл, размахивая кочере, то есть кочергой, орал: «Я тебя убью, сволочь!» — и вид его демонстрировал всю серьезность намерений. «Я тебе башку проломлю!» Он гонялся за отчимом. Фрадл кричала: «Сашенька! Сашенька!» — пытаясь остановить сына.
Кончено, я уже знал подоплеку этой истории, ставшей прелюдией к многотрудному существованию мамы. С появлением Исроэла в доме Мацев — теперь Мацев-Вельчеров — произошел раскол. Старшие дети Фрадл настолько презирали своего отчима, что, когда он входил в комнату, мамины братья и сестры обычно театрально шептали: «Жид идет!» С самого начала Маше был предоставлен выбор: одно из двух, либо их любовь, либо его. Она выбрала любовь сводных братьев и сестер. Они разговаривали с ним, если вообще разговаривали, по-русски — на языке, который он едва понимал, а Маша, его плоть и кровь, звала родного отца «дядей» и на «вы». (Лишь той глубокой ночью, вдали от их любопытных глаз, она могла сидеть рядом со своим отцом, в полной тишине, в тайне вырезая бритвой страницы.) Почему они так его ненавидели? Да потому, что он был хасидом из польской глубинки; потому что Фрадл вышла за него по любви; и потому что он спас «Печатный дом» Маца от банкротства.
Доказательством коммерческой прозорливости ее отца был тот самый молитвенник «Дом Израиля», который я привез из Москвы. Название «Дом Израиля» наверняка было выбрано неслучайно: оно явно намекало на него самого, Исроэла-Израиля Вельчера. История публикации молитвенника была такова. Маме было около года или двух, не больше — как бы то ни было, Исроэл осознал всю глубину падения унаследованного им печатного дома. Тогда он сел на корабль, идущий в Америку, а шесть месяцев спустя вернулся со сказочным богатством: нью-йоркское издательство «Hebrew Publishing Company» согласилось дать ему в аренду свинцовые пластины с набором того самого молитвенника на покаянные дни[69] и праздники, который раскупали великолепно. За пятьдесят тысяч рублей печатный станок был оснащен мотором, а в типографии был установлен телефон — первый домашний телефон во всем Вильно, — и дело резко пошло в гору. Мамин отец имел теперь все права на единоличное владение, но, представьте себе, он ограничил свою долю 25 процентами. Он, ее отец, хотел лишь одного и мечтал лишь об одном — поместить свое имя на обложках книг, выходивших в типографии, рядом с именем Фрадл Мац.
Пока не разразился тот самый скандал с его пасынком, Александром, по поводу исключительного права поместить свое имя на эмблеме издательства.
В качестве жеста примирения Исроэл согласился поместить имя Александра первым. Сколько книг было опубликовано таким образом, она не знала, но не слишком много, поскольку вскоре Александр сбежал в Америку.
Александра, размахивающего кочергой, мне трудно себе представить: это никак не вяжется с тем его образом, который запомнился мне по поездкам в Нью-Йорк. Когда родители представили мне его и назвали фетер Александер,[70] я ответил: «Аза дарер фетер?»[71] Я делал вид, что недоумеваю, как такой худой человек может быть моим фетером — дядей, ведь фетер означает и «дядя», и «толстяк». Это был мой первый каламбур на идише. Так я поделился своим удивлением с мамой — и тут ее голос понизился до того зловещего регистра, которого я давно научился бояться.