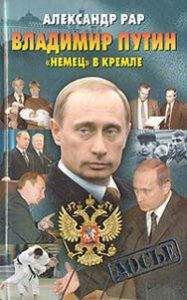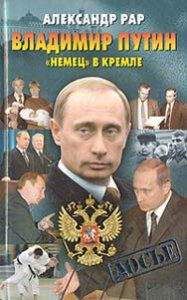Юрий Лощиц - Григорий Сковорода
Вдруг среди бела дня объявлялось: нынче во дворце машкерадный бал. Певчий пригоршней воды освежал разгоряченное лицо, торопливо напяливал праздничный кафтан и вперегонки с музыкантами мчался на хоры галерейного зала. Внизу уже сияли среди цветов причудливые груды снеди и струил фонтан на фигурном столе. Музыка гремела парадный вход, шелестело шествие атласом, парчой и шелками, рассаживались под ахи и охи, потому что места разыграны были по лотерее, и лишь волнительный случай решал, какому кавалеру возле какой сидеть дамы. Тут сотрясала своды сигнальная канонада с Невы. Мгновенно на все окна падали глухие шторы. Устанавливался на миг жуткий мрак, но тут же вспыхивали тысяча и двести свечей, преломляя свои язычки в подзеркальниках, хрустальных подвесках, бриллиантах и алмазах, озаряя темные, кишащие звездами полотна фальшивых окон. С хор водопадом обрушивалось громовое пожелание многих лет. Через минуту певчие уже обливались потом, шумно дышали, дико и озорно косясь на уставщика.
Пение задавало плещущему, как море, торжеству стремительный разгон. Уже столы куда-то слизывало, и на секунду открывалось обнаженное пространство паркетного пола. Ноги танцующих прихотливо выплетали по нему невидимое кружево.
…Вот всю капеллу угощают у развороченного, в винных потеках, стола, и кабанья голова, варенная в рейнвейне, осклабясь, глядит на это торопливое подъедание остатков.
Бал уже разбился на компании и группки; всюду беготня, Шум крики какие-то страшные люди, как заблудившиеся привидения, расхаживают по полутемным залам, никого не узнавая, бормоча что-то под нос.
Еще видел: в одной из укромных зал выступала на фоне стены полка с книгами; света мало, и не разглядеть было, что за названия поблескивают золотом на толстых кожаных корешках, только видно, что очень старые тома. Потянулся рукой, а книга не вытаскивается, ни одна, ни другая; нет вообще никаких книг, а весь этот фокус нарисован на холсте искусным обманщиком. Хорошо еще, что никто не подсматривал, а то бы засмеяли. И стыдно, что так обманулся, и жаль: книг-то нету!
И еще видел: как смешны наползшие на брови парики, как размазываются мушки на щеках, как ползет по шву атласное платье, напяленное на шестидесятилетнего старика, как невыгодно для большинства дам условие, поставленное государыней накануне маскарада: мужчины чтобы были в женских нарядах, а женщины — в мужских, — и как зато выигрывает при столь жестком условии сама она.
И еще видел, когда, наконец, из душных зал и комнат выбегали дышать ночной свежестью: как странно светится в темном саду мрамор Эзоповых фабул, а надо всем этим — над призрачными, похожими на привидения скульптурами, над темными кустами и деревьями — и само небо светится странно — безжизненно бледное.
И когда, наконец, доволакивался до постели и падал, не раздеваясь, ощущение зыбкости подкатывало с такой силой, будто вокруг ходила настоящая морская буря: то куда-то вверх стремительно летели ноги, то голова; в страхе открывал глаза и убеждался, что все на месте — потолок, угол окна, но стоило смежить веки — и опять то же.
23 февраля 1742 года, в послеобеденное время, из Петербурга по санному пути тронулся громадный царский поезд — ехали в Москву, на коронацию. Ехал весь двор — десятки кибиток, нескончаемый обоз грузовых саней — с гардеробом Елизаветы в тысячу пятьсот платьев, с хрупкими сервизами, с большими венецианскими зеркалами.
О четвертых сутках пути, на подъезде к селу Всехсвятскому, в семи верстах от матушки Москвы, раздался веселый благовест и теперь уже не стихал, передаваясь от храма к храму, пока, минуя триумфальные арки, одна другой преудивительней, поезд не подтянулся к стенам Кремля, над которыми, распугивая вороньи стаи, басил сам Иван Великий.
И как началось с этого дня, так до самой коронации уже не утихало, до 26 апреля, когда звон поднебесной меди смешался со звоном золота, которое освященная государыня щедро сыпала в толпы ликующего народа. Праздничное половодье затопило старую столицу почти на целый год: был утерян счет балам и маскарадам, дворец на Яузе, как хрустальный ларь, сиял по ночам иллюминацией и фейерверками. Москва валом валила в прибывшую из Петербурга оперу, где всех с ума сводил кастрат итальянец, и все. представление шло на итальянском, и придворные спеваки, участвовавшие в хоровых номерах, тоже пели по итальянски.
На троицу ездили в Лавру, и там Елизаветины любимцы снова пели — заливисто и лихо.
Дни богомолья сменялись днями охоты, охота — новыми балами, балы — ночным бражничеством в узком кругу, когда певчих вдруг со смехом сволакивали с только что пригретых постелей и везли к кому-нибудь из могущественных земляков — то к Игнатию Кирилловичу Полтавцеву, камерфурьеру ее величества (он, кстати, был в каких-то отдаленных родственных отношениях с Григорием Сковородой), то к гостящим в Москве малороссийским полковникам, то к матушке Розумихе, а то и к самому Алексею Григорьевичу, а там, оказывается, только с вечера пробудились и теперь уже ни за что не хотят спать, а хотят «куликать» до солнца.
Осенью в яузском дворце отгуляли свадьбу: женился первый придворный бандурист Григорий Любисток. Как ноль, что сам седоусый молодожен не мог видеть столь великолепного торжества слепенький был.
А в декабре, в подмосковном Перове, самым тайным образом устроилось еще одно венчание — Елизаветы Петровны с ее «другом нелицемерным».
Наконец, назначили день отъезда, и по молодому снежку, слегка утомленные широким московским гостеприимством, помчались восвояси.
Но передышка была краткой, как глоток морозного ветра в оконце кибитки. Вскоре отошел слабо соблюдаемый филипповский пост, и с рождества возобновился для всего двора затяжной труд веселья.
Певчих тормошили непрестанно: многочасные репетиции, стояние на клиросе и хорах, банкеты и оперы, крестины и именины, поминки и вечеринки, выезды на гулянье в Петергоф, катанья на лодках и галерах по Неве — вверх и вниз по житейскому хмельному морю.
В мае вся капелла гуляла по случаю произведения в дворянское достоинство все того же слепенького бандуриста Любистка и одновременно с ним певчего по прозвищу Богуш, он же Божок.
Такое ведь и каждому из остальных могло однажды улыбнуться. Словом, как пели позже в песенке:
Веселая царица была Елизавет…
Вот тут-то, в самый разгар веселья, и выкинул один из двадцати четырех штатных певчих императорской капеллы такой фокус, что все вокруг только ахнули: «Ну и Сковорода, ну и дурак! Недаром и фамилия у тебя такая глупая!»
Слыханное ли дело — Сковорода отпрашиваться вздумал! Куда, зачем, почему, с какой это стати? А вот так, ни с того ни с сего, захотелось ему домой, в Киев, на бурсацкий запечек.