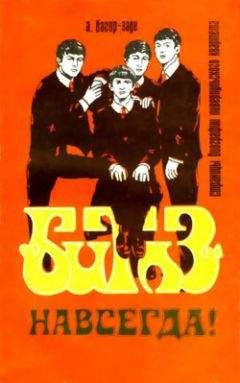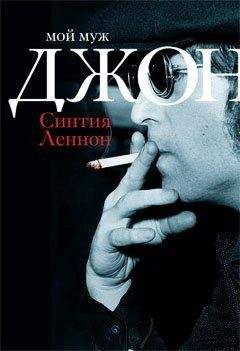Елена Толстая - Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург
Из того же ателье Кругликовой выйдет и художница Любовь Васильевна Яковлева, впоследствии жена композитора Юрия Шапорина — она в 1918 году организует свой кукольный театр в Петрограде, где даст работу вернувшейся из Парижа Кругликовой, и они поставят пьесу Гумилева. Любовь Васильевна Шапорина в конце 1920-х — первой половине 1930-х годов станет ближайшим другом семьи Толстых. От впечатлений, набранных в тот год в Париже, протягиваются нити последующих увлечений: карнавалом, кабачком-кабаре, кукольным театром; эти жанры в Петербурге поднимутся в ранге, став частью элитарного искусства.
Причастность к парижскому русскому литераторско-художническому кругу станет «масонским знаком». Вокруг этой «субкультуры» завяжутся связи: для Толстого это прежде всего начавшееся с конца зимы 1908 года знакомство с Н. Гумилевым, а с середины мая — и с М. Волошиным. Именно Волошин, с первой встречи с Толстым в мае 1908 года, примет ближайшее участие в его литературной судьбе.
Формообразующее воздействие Волошина началось с изменения внешности молодого Толстого — именно он изобрел ему образ, который Толстой сохранял несколько десятилетий. Вот как об этом рассказано у Л. В. Шапориной[35]:
…Ранней весной 1908 года появился на улице Буасоннад Алексей Николаевич Толстой с молоденькой красавицей женой Софьей Исааковной. Тут же состоялось знакомство Алексея Николаевича с Волошиным, который сразу повел его к парикмахеру. Когда они вернулись, Алексей Николаевич был неузнаваем. Исчез облик петербургского интеллигента: бородка клинышком, усы были сбриты, волосы причесаны на косой пробор, на голове вместо фетровой шляпы красовался цилиндр! Преображение Толстого было встречено дружным хохотом, больше всех смеялась его жена (Шапорина 1969: 68).
Волошин рукою художника выбрал Толстому парижскую кучерскую прическу, которая придала ему двусмысленный, архаический — то ли простонародный, то ли барский — и одновременно сверхмодный шик.
На той же странице Л. В. Шапорина упоминает приезд Гумилева: «Приезжал в 1907 г. еще совсем молодой Н. С. Гумилев, читал свои стихи. Мало кто знал его тогда, но говорили шепотом друг другу: „Он „весист“, его печатают в „Весах“!“ (Талантливом московском журнале того времени)» (Там же).
Кругликова направляет Софью в школу «La Palette», которой в это время руководят художники Жак-Эмиль Бланш, Шарль Герен и Анри Ле Фоконье. (Эту мастерскую позднее, в 1912 году, облюбовало следующее поколение молодых русских художников — С. Шаршун, Л. Попова, тогда там уже преподавали Ле Фоконье, Метценже, де Сегонзак; это был период классического кубизма.) Миф о Софье как одной из первых кубисток неверен: Шарль Герен (1875–1939), в мастерскую которого она попала в Париже, в 1907 году еще производил полотна отнюдь не кубистические, например «Ожидание» («Эрмитаж»); нечто в том же духе красочного, мечтательно-ироничного примитива вскоре начинают делать художники «Голубой розы», с которыми сблизились Толстые в Петербурге в 1909–1910 годах — С. Ю. Судейкин и Н. Сапунов. Кубистическая мода примется в России позже, в 1912 году.
В рукописной версии Софья вспоминает о своих парижских учителях:
Там преподавали известный портретист того времени Бланш[36], Герен[37] и Лефоконье[38]. Помню мое первое выступление. В школе было много англичан и американцев и небольшое число русских. Бланш приезжал в школу на автомобиле в сопровождении одной из своих заказчиц <…> какой-нибудь шикарной американки-миллионерши. Увидев меня в первый раз, ему пришла мысль написать мой портрет. Директор школы — американец поторопился мне доложить об этом великом для меня счастье. Надо признаться, что я <осталась> отнеслась к этому событию равнодушно, так как не знала ни Бланша, ни его мировой славы портретиста. Побыв некоторое время у директора школы, Бланш начал обход учеников. Я, увлеченная дисциплинами школы Званцевой, сделала с модели большой силуэтный рисунок углем без теней. Бланш пришел в бешенство и поставил мне условие: буду ли я работать тенями. Я отказалась, и Бланш заявил, что он ко мне больше не подойдет. Так закончилась моя встреча с Бланшем. О портрете он больше не заикался. Герен был педагог другого порядка. Живой пожилой француз, его больше всего в ученике интересовало его дарование, его индивидуальность. Я помню, как Кругликова показала ему мои парижские наброски пастелью. Они были очень несовершенны, но Герен ими заинтересовался, повторяя: талантливый, талантливый человек. Увидев рисунок углем с модели, Герен его одобрил, сказав, что больше всего [ценит] в рисунке чувство и жизнь, то, что есть самое ценное в искусстве. Лефоконье, один из кубистов, крупный, рыжий француз с голубыми глазами, был любимцем школы. Я с большим волнением ждала его консультации. Лефоконье, посмотрев внимательно мою работу, сказал, что она очень индивидуальна и он того мнения, что мне надо сохранить свою индивидуальность, и не стал меня гнуть к кубизму. Как-то мы с Алексеем Николаевичем были у него на дому, в его мастерской, залитой светом. Он был женат на русской художнице. Все ее звали Марусей[39]. Она, очень крупная женщина славянского типа, служила ему моделью для его картин. Так его вещь «Изобилие» написана была с нее. Плетеная мебель, русская кустарная скатерть, <крупный кустарный> пестрый чайный сервиз — все это давало впечатление какой-то удивительной радостной смеси французского с русским (Дымшиц-Толстая рук. 1: 12–14).
Размолвка и рывок
Первое подозрение, что семейная идиллия Толстых нарушилась уже в Париже в начале 1908 года, возникает при чтении его стихов. Одно из последних стихотворений в его записной тетради, датированное 24 января, звучит в чересчур личном и необычном для автора горестном тоне:
54. ПЕРЕД КАМИНОМ
Нет больше одиночества, чем жить среди людей,
Чем видеть нежных девушек, влюбленных в радость дня…
Бегут, спешат прохожие; нет дела до меня.
В камине потухающем нет более огней,
В душе змея холодная свернулась и легла.
За окнами встревоженный, тысячеглазый Он.
Хохочет с диким скрежетом кирпичным животом.
Тусклы огни фонарные, ползет меж улиц мгла.
Нет большего мучения, чем видеть, как живут,
Средь пляски сладострастия поникнуть и молчать.
Пришла к соседу девушка, он будет целовать.
За окнами, за шторами все тени там и тут.
Потух камин. И страшно мне: Зачем себя люблю.
Сижу согнувшись сморщенный, ненужный и чужой.
Покрыты у[гли красные] пушистою золой.
Себе чужой. [нрзб.] Так тихо сплю.
Этот странный и нелепый текст, полный штампов, диких образов и первичных эмоций, находится среди стихов главным образом на «мирискуснические» темы, например, «На террасе» (№ 33): «В синем стройно замерла» — как будто навеяно картиной Сомова; «Лунный путь» (№ 39) описывает старинный волшебный интерьер, который потом появится в «Детстве Никиты»: