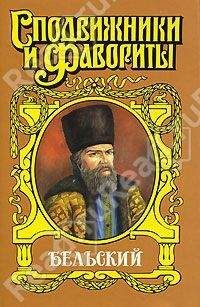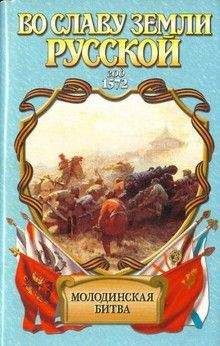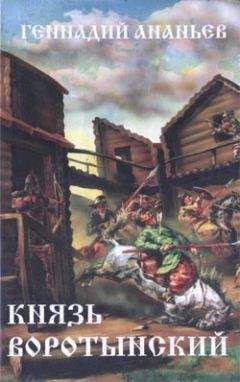Николай Любимов - Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний. Том 1
«Зеленинский» период жизни моей матери был самым интересным, самым богатым разнообразными впечатлениями. Уже одно знакомство с Ермоловой чего стоило! Изредка навещал Маргариту Николаевну ее отец, адвокат Николай Петрович Шубинский, обладавший даром незначительнейшее происшествие претворять в увлекательную новеллу. К Зелениным приезжал после спектакля Качалов. У Зелениных бывала совсем еще юная Варя Рыжова. У Зелениных появлялись светила московской медицины и юридического мира. В доме у других знакомых моя мать встречала Шаляпина, Горького, Леонида Андреева, Имя Ермоловой распахивало перед Маргаритой Николаевной и перед ней двери всех московских театров, концертных зал, Охотничьего клуба, Литературно-художественного кружка. У нее почти не оставалось свободных вечеров: то премьера в Малом, то премьера в Художественном, то опера у Зимина, то премьера у Незлобина с Рощиной-Инсаровой, то опера в Большом, то премьера у Корта с Блюменталь-Тамариной, то концерт Шаляпина, то концерт Собинова, то концерт Смирнова, то концерт Вяльцевой, то концерт Плевицкой, то концерт Вари Паниной, то вечер поэтов.
Встреча с секретарем перемышльской уездной землеустроительной комиссии сожгла все московские корабли. Моя мать знала, что ее любимый человек болен неизлечимо, что ему осталось несколько лет жизни. Это только укрепило ее в решении связать судьбу с Перемышлем.
Меньшинство знатной ее родни возмущал мезальянс. Большинство недоумевало, как можно менять Москву – да какую Москву! – на уездную дыру. И в самом деле, в Перемышле было много лучей света, да и само по себе это царство совсем не было темным, а все же разговоры там частенько вертелись вокруг цен на базаре, сообщались животрепещущие новости: у кого отелилась корова, у кого пропал поросенок, вспыхивали ссоры из-за выеденного яйца, разражались штормы в блюдце воды: перемышльская городская управа рассорилась с перемышльским театральным обществом только из-за того, что сынка члена управы обошли ролью. И, наконец, все мамины родственники и друзья были в ужасе, что она выходит замуж за человека, приговоренного медициной к скорой смерти.
Единственно, кто понимал мою мать до конца, это Маргарита Николаевна. Спустя пятнадцать лет она писала мне, что моя мать – героиня Достоевского. Но и у нее, и у Василия Яковлевича, когда они провожали мою мать на Брянском (ныне – Киевском) вокзале, было такое чувство, словно они хоронят ее заживо.
Мать предлагала отцу жить вместе с его родными, но он воспротивился:
– Если ты хочешь, чтобы у тебя с моей матерью и сестрами были прекрасные отношения, то давай жить порознь. А видеться можем хоть каждый день, – сказал он.
Так, по его слову, и вышло.
Мать с отцом сняли на Калужской улице домик с садом. Галерея с чуланчиком, передняя, столовая, она же гостиная, комната, которая стала потом моей детской и где вместе со мной поселилась старушка-няня, спальня родителей, кабинетик отца окном во двор, темная «проходная» комната, кухня, сени, двор, сад…
Обставили квартиру для уездного города более чем прилично. Первой ценительницей жилья молодых оказалась бабушкина прислуга Авдотья. Оглядев, что, как и где расставлено и развешано, она прибежала с докладом к бабушке и Евдокии Михайловне. Особенно ее поразила «дыхальная» (то есть, в переводе с ее языка, мягкая) мебель и размеры «продовольствия», как она почему-то называла нужник.
Образовался круг знакомых. Отец и мать много читали вслух, что явствует из их переписки с родными. Своими руками разбили в саду цветник. Затем появился я. Жизнь была полна и могла бы быть счастлива… Но болезнь отца вытягивала из него все соки. На последней фотографии щеки у него точно высосаны… Один анализ хуже другого. Калужские врачи – а Калуга тогда славилась своими врачами – говорят матери правду… У отца нет сил ходить на службу. Нет сил передвигаться по комнатам. И уже трудно лежать. Плоть все немощнее и немощнее, но разум ясен и дух бодр. Прощание – и христианская кончина, мирная, почти безболезненная…[4]
А в сердце у матери до последнего мига трепетала надежда на чудо. И когда конец наступил, взрыв неизведанного ею до того дня отчаяния потряс всю ее душу.
Ее утешали. Ей говорили о Боге.
– Да что мне ваш Бог? – кричала она в исступлении. – Если б Он был, разве Он отнял бы у меня Мишу?
К ней подносили меня.
– Унесите его! – кричала она. – Я не хочу его видеть. Разве он заменит мне Мишу?..
Бога скоро вернул ей – и уже навсегда – о. Николай Панов; вернул беседами с ней наедине, свободными от «мудрования», но зато полными той благодатной, той человеколюбивой, той тихой веры, что движет горами и повелевает ветрам.
А меня, единственного своего сына, на которого она в минуту нестерпимой душевной боли не бросила даже беглого взгляда, она полюбила такой любовью, для которой язык человеческий еще не придумал слов.
Москва, октябрь 1970
Свет присносущный
…да воссияет и нам грешным
свет Твой присносущный…
1
Раз в несколько лет, в июле, в августе, а то и ранней осенью, по желанию верующих перемышлян из села Явленного, расположенного неподалеку от Калуги, привозили к нам на неделю икону Калужской Божьей Матери, почитавшуюся и доныне почитающуюся чудотворной. Для горожан и жителей окрестных деревень это было «велие торжество», как говаривал настоятель перемьплльского собора о. Владимир Будилин.
Икону еще на моей памяти (последний раз – осенью 1928 года) привозили в карете, и одна эта карета мгновенно вырывала меня из моей привычной уездной повседневности. Вместо телег и саней, вместо изредка попадавшихся мне на глаза тарантасов и шарабанов – вдруг пахнущая стариной, точно из сказки, из книги вымахнувшая карета!
Встречать икону перемышляне, и стар, и млад, выходили к Оке. Как только карета выезжала с парома на перемышльский берег, икону выносили из кареты, карета с сопровождавшим «икону священником или псаломщиком следовала в Перемышль, а икону, то и дело сменяясь, около двух верст несли на руках верующие. Женщины и некоторые мужчины становились на середине шоссе и сгибались в поклоне, так, чтобы икону пронесли над ними.
На самом высоком месте шоссе, неподалеку от реки, икону ожидало духовенство, сверкая на солнце серебром и золотом риз, стихарей и хоругвей.
Вот о. Владимир Будилин, весь как есть серебристый и серебрящийся На солнце; серебристая голова, серебристая борода, серебристое облачение. Он среднего роста, с высоким умным лбом, с маленькими, умными, прячущимися за очками глазками, в которых, когда он обнаружит слабое место у своего оппонента или найдет очередную несуразность в газете, вспыхивает насмешливый огонек. У о. Владимира тихий голос, он шамкает, но к древнему соборному сумраку так идет слетающий с его уст молитвенный шелест слов акафиста Пресвятой Богородице: «О веепетая Мати!»[5]. Мысль его остра, неожиданна и своеобычна, но он до крайности не красноречив, пересыпает свою речь бесконечными «то», «того», так что слушаешь его всегда с напряжением, однако напряжение неизменно окупается тем, что выносишь из беседы с ним. Он любит физический труд – я видел однажды, как он метал копну, выказывая чисто крестьянскую сноровку, хотя он был потомственный «колокольный дворянин». Этот митрофорный протоиерей, епархиальный благочинный, был сыном псаломщика из села Подкопаева Мещовского уезда Калужской губернии. По бедности родителей, живших на краю села в хатке-развалюхе, и благодаря своим выдающимся способностям, Владимир Александрович учился на казенный счет в калужской семинарии и для того, чтобы побывать дома на каникулах, избирал, подобно гоголевским бурсакам, единственный доступный ему в то время образ пешего хождения. Затем, также на казенный счет, был принят в Московскую духовную академию, а по окончании ее назначен настоятелем перемышльского Успенского собора. Он входил в Совет Перемышльского благотворительного Алекеандро-Невского братства. На собранные братством пожертвования, на выручку от устраивавшихся им спектаклей и концертов в Перемышле была открыта библиотека. Устраивало братство и так называемые «народные чтения» с волшебным фонарем. Братство выдавало пособия бедным. Братство выстроило бедняку Музыкину домик на месте его лачужки. На основе сохранившихся в соборе сказаний о. Владимир писал историю нашего края. Послал одну из своих исторических работ в московское издательство. Ему ответили, что рукопись принята к изданию и передана в типографию. Но тут грянула революция, издательство ликвидировали, и книга так и не вышла. Он хорошо знает литературу, высоко ценит Достоевского – с таким ударением произносит он эту фамилию – и как писателя, и как мыслителя, утверждает, что ни один церковный писатель не сделал столько для православия, сколько Достоевский; о Толстом говорит с беззлобной скорбью, что он своей проповедью причинил много вреда, особенно – молодежи. О. Владимир от доски до доски прочитывает газеты, даже «Экономическую жизнь», в курсе всех политических событий – внутренних и международных. Некоторое время спустя после смерти Ленина кто-то из моих родных задал о. Владимиру вопрос: кого он считает сейчас самыми крупными фигурами в большевистской партии.