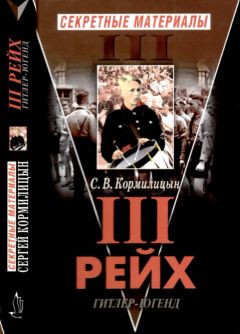Игорь Золотусский - Гоголь в Диканьке
В отношениях Гоголя с народом не было ни заискивания, ни лицемерия. Он, рассердившись на своего слугу Якима Нимченко, как вспоминает П. В. Анненков, мог простодушно сказать, что побьет ему рожу, но он же и заботился об этом Якиме, женил его на девке Матрене и поселил их обоих в своей квартире в Петербурге. Позже Яким по его завещанию был отпущен на волю. Гоголь знал цену хитрости мужика, недоверию мужика к барину и невозможность откровенности между барином и мужиком, но он умел быть естественным в этом неестественном положении, при котором один подчинен другому, навсегда придан и продан другому, – для него мужик был прежде всего человек, а уж потом мужик, крепостной, его подданный, как выражались тогда. Поэтому он посылал сестре Ольге (которая со временем сделалась его ближайшим помощником в таких делах) деньги для покупки скота крестьянам, на лекарства, одежду.
«Один старик крестьянин, – пишет В. Чаговец, – на наши расспросы о Николае Васильевиче только мог ответить: «О, що то був за паныч добрый, Николай Васильевич, нехай его душенька царствуе! Бувало мене малого распытают, що роблю, що обидаю; иноди пьятака давали, а раз то подарували черевычки, таки легеньки, та крипеньки; и то довго я в них ходив; и людям теж богато помагали. Дай им бог царство небесное!» И старик снял шапку и перекрестился».
Но в Петербурге, куда Гоголь взял Якима с собой в 1828 году, тот несколько развратился, перестал готовить и предпочитал брать обед для барина в трактире, а большую часть времени проводил на лежанке за перегородкой, где или спал, или читал вверх ногами взятые у барина книги. Зимою он любил ходить «под горы» – то есть на Адмиралтейскую площадь, где устраивались ледяные горки, а весною – туда же поглазеть на балаганы, где показывали разных ученых зверей, где фокусники разрезывали человека пополам и где всегда толпился простой народ.
Гоголь, заждавшись своего слугу (который забывал почистить платье и натереть сапоги), делал за него все сам, ругал его на чем свет стоит, грозил наказать, но почти никогда не приводил своих угроз в исполнение. Их с Якимом связывали Васильевка, детство, и не было в Петербурге существа, более понимающего Гоголя, чем его слуга. Он мог молчать, посмеиваться над барином, мог притворяться, что не слышит его приказаний или не понимает их, но Гоголь часто видел себя в Якиме, как в зеркале. Да и одевался тот так же, как барин, донашивая его модные одежки, и старался говорить так же, и приврать любил по-гоголевски – с размахом.
Осип отчасти списан с Якима, как, впрочем, и другие слуги в сочинениях Гоголя. Их, кстати, много. Иван в «Носе», Степан в «Женитьбе», Никита в «Портрете», Петрушка в «Мертвых душах».
Осип относится к Хлестакову, как к дитяти. Он прекрасно видит легкомыслие своего господина и ловко пользуется им. Осип не так простодушен, как Хлестаков. Если Хлестаков готов оставить купцам веревочку от сахара, то Осип говорит: давай и веревочку. Он, смекнув гораздо ранее Хлестакова, что их принимают не за тех, кто они есть, тонко вводит в эту игру городничего и других. Он намекает им, что его барин, может быть, выше полковника. Не сговариваясь с Хлестаковым и не получив от того никаких полномочий на это вранье, он врет сознательно, предвидя поживу и для себя. Но когда над ними нависает гроза и обман готов разоблачиться, уговаривает Хлестакова почти что отечески: поедем, загостились уже. Тут страх смешивается с жалостью к Хлестакову, потому что достанется больше всего тому, батюшка выпорет розгами того, хотя и Осипу не миновать тумаков.
«Сорочинская ярмарка». Худ. С. Харламов
Конечно, Осип не Яким – он не только жалеет, но и презирает своего барина. Он не прочь подставить ему ножку. Он издевается над его образом жизни в Петербурге, а сам завидует ему, ему самому хотелось бы так гулять по Невскому, дуться в картишки и жить за счет аглицкого короля. Вместе с тем он чувствует неосновательность всей этой жизни, ее непрочность, вертопрашество. И чувства дядьки, старшего по отношению к Хлестакову, житейского опекуна «елистратишки», смешиваются в нем с издевкой и желанием мщения.
Яким был пуповиной, связывавшей Гоголя с крестьянской Россией, с хитростью и дальним умом мужика, с его непобедимой уверенностью, что все само собой образуется. Во всех своих пылких прожектах, начинаниях, предприятиях, остывая, он обращался к Якиму – и тот помогал ему притаптывать романтический огонь. В нем было некое спокойствие, которое есть во всех слугах Гоголя. Они даже меланхолики, а точнее, стоики – им все нипочем. Бричка вывалила барина в грязь – переживем. Нос отнялся, и на лице образовалось гладкое место (для барина это трагедия) – образуется, вернется нос (куда ему деться?). Беспокоится барин из-за женитьбы – минует и эта суета. Слуги у Гоголя своею невозмутимостью оттеняют суетливость господ. Те вечно куда-то спешат, куда-то рвутся: то за платьем незнакомки, то за богатством, то за генеральством, – они смотрят на это и ждут. Все равно барин вернется, как возвращается на место утерянный нос майора Ковалева.
В этом ожидании есть какая-то мудрость и, пожалуй, духовное здоровье, хотя кажется, что это разврат безделья и упования на русский «авось». Слуги у Гоголя, конечно, не чистые крестьяне, это дворовые, тот особый слой в русском крестьянстве и народе, который успел уже развратиться своей близостью к господам, ожесточиться, видя блага, которые имеют господа и которых нет у них, но они еще сохраняют первородный юмор народа и его иронию не только по отношению к тем, кто стоит над ними, но и по отношению к жизни вообще.
Если перейти от слуг к мужикам, которых редкими штрихами набросал в своих книгах Гоголь, то мужики у него тоже зрители действий господ, зрители по большей части иронические. Таков мужик, который отвечает Чичикову, как доехать до Плюшкина (которого он называет «заплатанной»), мужики, разнимающие сцепившиеся тройки Чичикова и губернаторской дочки, мужики, бредущие обочь дороги, по коей путешествует герой «Мертвых душ», мужики, стоящие у въезда в гостиницу и рассуждающие о достоинствах чичиковского колеса (в смысле – доедет оно до Казани или нет).
И лишь в Селифане (который не так развращен, как Петрушка) просыпается иногда лирическое чувство, и Гоголь отправляет его теплым летним вечером на свидание к городским девкам, и тот мечтает о «политичном держанье за белы ручки» и семейном счастии.
Мужики у Гоголя пьянствуют, работают и мрут «как мухи», но силою воображения Гоголь оживляет их в своей поэме, и тогда встают с ее страниц разные Степаны Пробки и Григории Доезжай-Недоедешь, которыми изобильна русская земля, и Гоголь слагает гимн их бесшабашности, умению строить, таскать суда посуху, грузить баржи с зерном на Волге и опять-таки гулять, в хмельном веселье глуша тоску по воле. Страницы в «Мертвых душах», где Чичиков – этот холодный делец – рассматривает список купленных им крестьян, становятся поэмой в поэме, истинной песнью Гоголя русскому народу, и такого накала достигает это чувство, что сам Чичиков замирает перед ожившей картиной и восклицает почти любовно: да где же вы, милые? Куда занесла вас жизнь? Где бродите вы сейчас? (Это о беглых.)