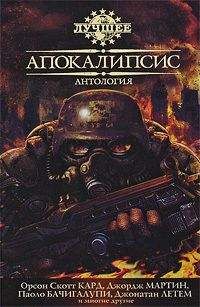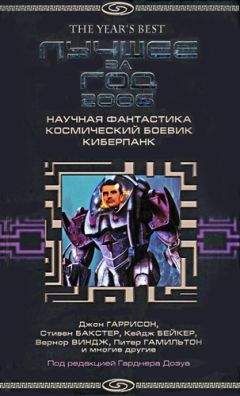Вернон Кресс - Зекамерон XX века
Бригадников немедленно увезли в Комсомольск, посадили в изолятор и тут выяснили, что ни одного политического среди них нет. Сам Бакулин сидел за то, что его водитель задавил на машине человека. Однако всех направили на Колыму. Зимой Бакулин — он был бесконвойник — колесил за рулем по трассе, а летом его как хорошего организатора направили сюда, на золото.
6Для меня началась очень беспокойная, но интересная жизнь. С зеленым ящиком за плечом я своими ногами измерил все тропинки между первым и вторым участками, поперечные распадки и дорогу на переправу. Пришлось заниматься съемкой перевалки, как требовало начальство в Магадане, будто не все равно, где стоит дом — на десять метров выше или ниже по реке. Я научился быстро работать на немецком теодолите (Леша же предпочитал делать съемку на советском военном, который недели через три привез на тракторе неутомимый Исаак) и, натренировавшись в ходьбе, скоро не признавал иного транспорта, кроме своих ног; не отказывался, конечно, сесть на попутный трактор, но его отсутствие мне не было помехой. Поэтому я стал кем-то вроде курьера, которому поручали передавать срочные задания или сведения на другой участок. Нашу основную работу: определение границ полигонов, привязку к старым реперам[11], нивелировку и, наконец, инструментальный замер (он делался раз в полмесяца, для контроля ежедневных объемов, записанных бригадиром) — все это я скоро и легко усвоил.
Не было конца и всяким неофициальным заданиям. К примеру, проверить уровень канавы для осушения старого полигона, при этом пришлось нивелировать сквозь выдолбленные в виде сетки лунки (толстый лед на затопленном полигоне таял лишь в июле), в одну из них я попал ногою в резиновом сапоге и потом долго хромал. Или: сделать глазомерную съемку будущей автодороги от перевалки и многое другое.
Скоро мы с Лешей разделили работу. Для нивелировки ко мне прикрепили реечника. Его делом было как можно быстрее ставить рейку на нужное место, когда я стоял за нивелиром или теодолитом и брал отсчет, — для этого реечнику требовались хорошие и легкие ноги.
Светлыми вечерами я усаживался возле палатки, рядом с горевшим дымокуром — комары день ото дня становились все нестерпимей, — и то чертил разрезы, то высчитывал вынутые объемы. За моими расчетами наблюдал реечник Миша Колобков, невысокий крепыш с веселым, круглым курносым лицом, бывший бухгалтер. Он имел на лагерном жаргоне «полную катушку», то есть самый большой срок — двадцать пять лет и пять — поражение в правах. При ревизии Миша выявил махинации школьного товарища и, пытаясь спасти его, попался сам. Арестовали его осенью. Дело было настолько ясным, что Колобков не отпирался и потому успел проскочить мясорубку следствия, суда, этапов, Ванинской пересылки, Магадан, не претерпев особенных унижений, голода и холода, не осознав, в какое страшное положение попал. Это был еще не сломленный тридцатилетний силач, в прошлом акробат-любитель и борец. Но работать Миша ленился. Напрасно я ему объяснял, какое это благо не числиться на общих и получать питание без нормы. Он едва волочил ноги, переходя с точки на точку, и ставил рейку кое-как. Я не жаловался, хотя он тормозил мою работу, но Леша, наблюдавший за нами, сказал однажды:
— Зря ты держишь этого лодыря. Давно его надо было гнать. Завтра возьмешь другого!
Из нового этапа мне выделили высокого чернобрового парня с тонким горбатым носом и большими волосатыми руками. Степан был гуцулом, родом с верховья Черемоша. Узнав, что я хорошо знаком с его родиной, он проникся таким доверием ко мне, что даже не спрашивал, к чему эта совершенно непонятная беготня с рейкой. Сколько я потом ни старался растолковать ему суть нивелировки, мои слова до него не доходили. Абсолютно неграмотный, он ничего не понимал в планах и картах. Но был он очень расторопным, несмотря на небольшую хромоту.
Иногда мы втроем ходили на верхний участок. Дорога шла по склону сопки, с небольшим подъемом. Сразу за нашим первым участком начинались старые отвалы: отвратительные конусообразные насыпи из гальки высотой с двух-трехэтажный дом. Отвалы поменьше и постарше, еще со времен Берзина[12], которые почему-то не перемыли в сороковом году, начали покрываться зеленью и уже не так раздражали глаз неприглядной наготой. Вся долина от склона до склона была обезображена этими следами человеческого деяния, а речка оттеснена в искусственное русло. Невольно возникал вопрос: сколько потребуется времени, чтобы природа полностью смогла уничтожить следы такого насилия над ней?
За полигонами долину кое-где пересекали линии шурфов, глубоких узких колодцев, которые быстро заваливались, становясь мелкими, меньше метра. Каждый колодец был отмечен двухметровой вешкой. Шурфы когда-то пробили геологи, чтобы определить, есть ли золото вблизи русла.
Дальше долина распахивалась в ширину, становясь почти пологой. Это была территория второго участка. Здесь рычали два бульдозера, вскрывая огромный полигон, который значился на картах геологов золотоносным, на деле же был почти пустым. Намывали какие-нибудь триста граммов за смену, смехотворный результат, если вспомнить, что мы недодали больше трехсот килограммов. Но за эти крохи Лебедев, коренастый, сгорбленный, с серым лицом, несмотря на постоянное пребывание на воздухе, и голубоватыми рыбьими глазами, бил своих рабочих палкой, сапогами, жег папиросой, душил. Он был очень сильным, хорошо упитанным и всегда носил за голенищем финку. Единственное, чего он добился для своей бригады — угрозами, взятками, хитростью, — был более сытный паек. Но люди его на глазах доходили от непомерной работы и побоев. Своих юнцов он расставил звеньевыми, у каждого был дрын, а их норму отрабатывали другие.
С первого дня лагерь на шестнадцатом километре был обнесен колючей проволокой. Палатки в нем стояли такие же, как на первом участке, но санчасть — владение Хабитова — была гораздо больше. Участковые бригадиры в золотодобыче не разбирались, только подгоняли рабочих, а как улучшить процесс производства, не знали. Вообще не хватало грамотного начальства. Вот и получилось, что долгое время на втором участке командовал Хабитов, врач. В прошлом офицер, он умел поддерживать дисциплину. Кроме него, бригадира и повара Бориса тут были только рабочие и три надзирателя, которые еще меньше понимали в горном деле.
На каждом участке работал один прибор — тяжелая восьмиметровая деревянная колодка, покрытая изнутри полосами ворсистых, разорванных вдоль одеял, прочно прижатых колосниками. Вода, подаваемая в колодку с помощью небольшого насоса, размывала грунт, который зеки подвозили на тачках к бункеру. Другие буторили — перемешивали в колодке эту жижу из камней и комьев земли железными скребками с длинными ручками, похожими на огородные тяпки, разбивали слипшуюся землю, которую не могла размыть вода. Колодка имела небольшой наклон назад, и постепенно тяжелые фракции оставались между колосниками, а более легкие камешки проскальзывали на сброс; вся мутная жижа с камнями вылетала струёй на железные листы, согнутые желобами, которые отводили гальку обратно в речку или на отвал. Когда считали, что грунта переработали достаточно, насос останавливали, убирали колосники, снимали полосы одеял, на которых оседали тяжелые частицы песка — шлихи, в них и содержалось золото. Шлихи промывали лотками, обычно в наполненной водой старой вагонетке, стоявшей около прибора. Потом высушивали золото на костре, высыпали в алюминиевую миску, и надзиратель уносил ее в помещение охраны. Там золото взвешивали и оприходовали по форме. При отсутствии вольного горнадзора документы обычно подписывал бригадир.