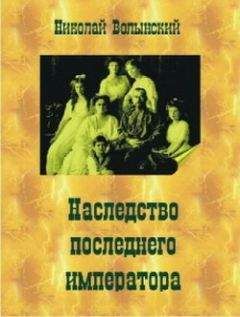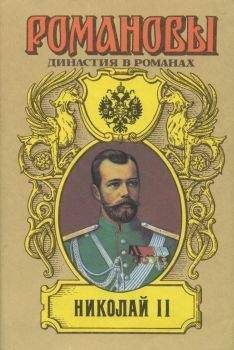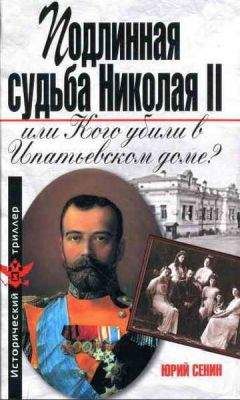Сергей Фирсов - Николай II
В июле 1881 года великий князь Николай Александрович уже сопровождал своего отца в Москву. Как пишет американский историк Р. Уортман в книге «Сценарии власти…», этот приезд в Первопрестольную включил тринадцатилетнего «наследника в инсценировку национального сценария его отца. Николай рассматривал русскую монархию как праздничный союз между царем и народом». Научные характеристики менее всего помогают понять психологию того или иного исторического «персонажа», потому и судить о «включенности» юного наследника в инсценировку национального сценария «святой православной России» (в ее старомосковском стилизованном обличье), думается, слишком смело. Он был сыном своего отца, членом большого царствующего дома, наследником, и это стоит учитывать прежде всего. Для русских царей безусловным фактом было наличие союза между ними — носителями верховной власти — и народом, что еще в 1830-е годы нашло отражение в знаменитой уваровской триаде «православие, самодержавие и народность». Праздничный был союз или нет — дело второе, главное, что он был.
Вскоре цесаревич начал вести дневник, получив от родителей в подарок на новый, 1882 год небольшую (по формату) памятную книжечку, изготовленную типографским способом. На каждый день в этой книжечке были отпечатаны знаменательные даты: религиозные праздники, дни рождения и именины членов дома Романовых. Подобные книжечки были и у других членов Дома. Быть может, по этой причине — по привычке, выработанной в детстве, — цесаревич, став во главе империи, продолжал каждый день делать лаконичные записи, в которых фиксировал лишь «техническую» информацию: о встречах, о погоде, об основных происшествиях дня, а развернутой оценки случившемуся не давал. Получив в свое распоряжение этот дневник, исследователи многие десятилетия использовали его для доказательства «умственного убожества» последнего русского царя. Но мы не будем идти тем же путем!
Да, цесаревич в тринадцать с половиной лет не писал в дневнике о своем превосходстве над окружающими, не обнаруживал стремления стать самодержцем. Но разве это странно? Дневник он вел для памяти, припоминания о прошедших событиях были только припоминаниями. В данном случае первые записи дневника удивительным образом похожи на те, которые делались им в последующие годы. «Утром пил шоколад; одевал л[ейб]-гв[ардии] резервный мундир; за завтраком с нами сидели Сандро (великий князь Александр Михайлович. — С. Ф.) и Петя (принц П. А. Ольденбургский. — С. Ф.); ходили в сад с Папá: рубили, пилили и разводили большой костер; легли спать около 1/2 десятого» — так начинается дневник цесаревича 1 января 1882 года. Впрочем, иногда лаконичные дневниковые записи позволяют судить не только о «внешней канве» событий. В том же 1882 году, 4 января, наряду с упоминанием о будничном кофе, чтении «Хижины дяди Тома» и об учебе, великий князь пишет, что «за завтраком были кн. Юрьевская, Гого (ее сын Георгий. — С. Ф.) и беби [дочь Екатерина]». Эта запись свидетельствует о том, что цесаревичу, наконец, объяснили, кто была та женщина, встреча с которой на семейном обеде вызвала у него недоумение и вопросы. Впрочем, дружбы семьи Александра III с княгиней Юрьевской и ее детьми не получилось. Вскоре вдова Александра II покинула Россию и поселилась в Ницце. Бывая в Петербурге редко, она более не имела возможности для приватных встреч с императорской семьей.
В последующие годы жизнь наследника престола протекала без особых потрясений; иногда он появлялся на официальных мероприятиях вместе со своим венценосным отцом, в мае 1883 года присутствовал на его коронации. Как воспринимали наследника, как к нему относились современники? Особого восторга он не вызывал. Так, председатель II Государственной думы Ф. А. Головин вспоминал случай, свидетелем которого был в 1883 году, — при посещении Александром III Лицея цесаревича Николая в Москве. Лицеисты, одним из которых тогда и был Головин, восторженно встретили царя и царицу, но наследник почему-то показался им «ничтожеством, не стоящим внимания». Оттертый от отца лицеистами, ринувшимися вслед за удалявшимся по лестнице царем, наследник «стал испуганно пищать: „Пропустите, пожалуйста, и я — царская фамилия“». Лицеисты потом много смеялись над этой фразой, вспоминая подробности царского визита. Конечно, Головин, считавший Николая II плохим царем, субъективен, но дело не только в субъективизме: даже если подобное замечание — миф, то миф весьма показательный. В великом князе изначально отказываются видеть «персону», достойную уважения; его воспринимали лишь как слабого и блеклого человека. «Мифоманию» можно считать своеобразной социальной болезнью, распространение которой трудно остановить и которой бессмысленно противопоставлять проверенные факты. Интереснее другое: механизм создания негативного или, наоборот, позитивного образа исторического героя. Но говорить о механизме — значит говорить об исторической обстановке, в которой этот герой жил, говорить о его окружении и о психологическом «фоне» эпохи. В конце концов, формирование образа в истории играет не меньшую роль, чем сам образ.
Гнусные истории о «тяжелом детстве» будущего самодержца стали появляться еще при его жизни, находя и публикаторов, и заинтересованных читателей. Одним из распространителей подобных историй был В. П. Обнинский, ровесник (как и Головин) Николая II, в молодые годы служивший офицером в гвардейском полку, расквартированном в Царском Селе. Источник информации, таким образом, проясняется. Что же отмечал, говоря о юных годах Николая II, Обнинский? Он, разумеется, обращал внимание на недостаточное образование и совершенно разнузданную жизнь будущего самодержца, протекавшую якобы в обстановке попоек и разврата. Желая показать, что окружение Николая Александровича было самого дурного свойства, Обнинский приводит рассказ о развлечениях великого князя Николая Николаевича (Младшего), который, заметим, был на 12 лет старше цесаревича.
Этому-то великому князю, судя по всему, и отдавалась «пальма первенства» в деле развращения наследника: ведь именно Николай Николаевич и его «гусары», напившись до полубессознательного состояния, считая себя «волками», раздевались и выбегали на улицу в Царском Селе. Воя на луну, они таким образом требовали алкоголя, и старый буфетчик выносил им большую лохань водки или шампанского. Алкоголь «вылизывался» языком, с визжанием и кусанием. «В такой-то оригинальной обстановке протекали все драгоценные годы молодости наследника, когда всякий, даже рядовой человек спешит забирать из школы и жизни побольше знаний и опыта», — писал Обнинский. Пошлые слова, из которых следовало, что наследник формировался в нездоровой обстановке, свидетельствовали не столько о знании автором реалий, сколько о том, как воспринимали воспитание и образование последнего самодержца оппозиционные ему и его правлению лица. В дальнейшем пасквиль Обнинского, где правда была сдобрена значительной массой лживых слухов и сплетен, стал источником, из которого черпали свое вдохновение и другие авторы (в частности, журналист Л. Львов и публицист И. М. Василевский /He-Буква/). Причем у этих авторов мы можем наблюдать развитие сказки: если Обнинский делал акцент на поведении Николая Николаевича, «развращавшего» цесаревича, то Львов уже смело писал, что спиртными напитками будущий царь начал увлекаться чуть не с детства, прославившись попойками еще до достижения шестнадцатилетнего возраста. «Часто он со своими сверстниками допивался до того, что устраивал игру в зверей — все бегали по парку одного из гатчинских дворцов на четвереньках, иногда нагишом. Тогда ворота парка наглухо запирались, дабы посторонние не проникали в тайну забав наследника престола». По словам «информированного» журналиста, одним из наиболее активных участников этих попоек был Д. С. Сипягин, за что (равно как и за умение готовить соус с устрицами) в царствование Николая II стал министерским чиновником[11]. «Предания» Львова лишь технически отличаются от «откровений» Обнинского: если первый описывал «игрища» в Царском Селе, то последний перенес их в Гатчину, сделав центральной фигурой развлечений наследника и его сверстников (а не Николая Николаевича). В «ровесники» попал и Д. С. Сипягин, бывший на 15 лет старше цесаревича и к 1884 году имевший скромный чин VII класса (чин надворного советника, равный подполковнику).