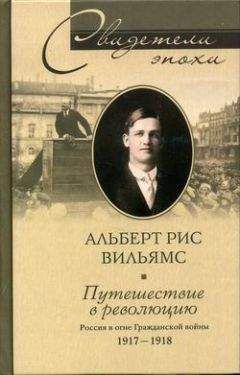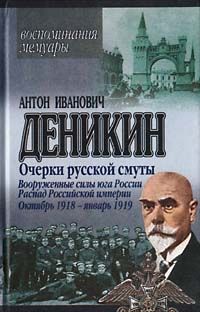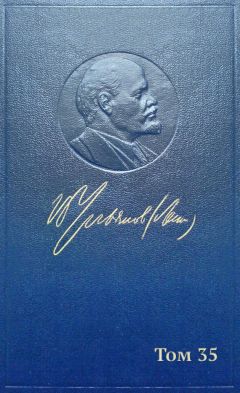Лидия Чуковская - Памяти детства: Мой отец – Корней Чуковский
Никогда я не слышала чтения более пленительного. Как будто все черты его личности собирались в эти минуты в голосе, в интонациях, в губах, которые льнули к звукам, в звуках, которые льнули к губам. Однажды в море, маленькой девочкой, слушая его голос, произносящий стихи, я впервые заметила красоту его рук. Таких особенных рук я потом в жизни ни у кого не видала. Сильные, хваткие, но не искаженные ни веслом, ни пилой, ни ведрами, ни камнями, ни лопатой; кончики длинных пальцев отгибались назад.
Лирическая основа его естества, скрываемая обычно иронией, насмешкой, язвительностью, задором полемики, явственнее всего проступала наружу, когда он читал стихи.
В голосе его, когда он читал великую лирику, появлялось некое колдовство, захватывавшее и его и нас. На страницах своих сочинений он не раз говорит, что смолоду привык «упиваться стихами». Упоение заразительно. Наверное, потому мы и упивались, слушая, что он упивался, произнося. И все стихи, которые я узнала потом, одна, сама, без него, звучание всех на свете стихотворных строчек, кто бы их ни произносил, навсегда связаны для меня с моим детством и его голосом.
– Зыбь ты великая! Зыбь ты морская! – начинал он, закидывая весла и чуть-чуть раскачиваясь. – Чей это праздник так празднуешь ты?
Волны несутся, гремя и сверкая,
Чуткие звезды глядят с высоты, —
читал он широким, певучим, страстным, словно молящимся голосом, и мне казалось, что теперь уже лодка покоряется не волнам и веслам, а весла и волны – и все вокруг – звучанию голоса.
Читая нам стихи на морских прогулках, был ли он занят тем стиховым воспитанием, о котором впоследствии так много писал и на отсутствие которого с такой горечью сетовал? И нет и да. Нет, потому что приемы и способы стихового воспитания, подробно изложенные в его послереволюционных статьях, не были еще разработаны им; он тогда еще только наблюдал эту встречу: стихи и ребенок, стихи и возраст, ступени восприятия. Нет, обдуманно, сознательно еще не занимался; пожалуй, если бы тогда, в лодке, он был наедине с морем, без слушателей, один, он читал бы те же стихи, что и при нас. И да, конечно, был занят стиховым воспитанием! Если не воспитывал в прямом смысле, осознанно и методически, то, как бы поточнее это сказать, – влюблял. На страницах своих книг он постоянно утверждает, что первое дело учителя литературы – влюбить детей в поэзию. На морских прогулках он и внушал нам влюбленность.
И конечно же он понимал: такого обостренного чувства ритма, как в детстве, у взрослых не будет уже никогда. Читая нам в те годы в изобилии стихи, он если и предавался стиховой педагогике, то лишь самой первоначальной, первичной, да зато такой, без которой всякая дальнейшая немыслима: очаровывал нас поэзией, вовлекал нас в нее, как других детей в детстве вовлекают в музыку.
(Он уже тогда понимал, что давать слушателям какие бы то ни было сведения о поэзии – исторические или формальные – до того, как она сама по себе стала их душевной потребностью, – занятие бессмысленное, схоластическое и даже вредное. Зачем, в самом деле, забивать взрослым и детям головы сведениями о том, когда и каким размером был написан «Медный всадник», почему так долго не печатался, когда наконец напечатан и как его встретила критика, если слушатели не испытывали наслаждения, произнося вслух и про себя, ложась спать и вставая:
Но силой ветров от залива
Перегражденная Нева
Обратно шла, гневна, бурлива,
И затопляла острова.)
«…Я принадлежу к числу тех чудаков, которые любят поэзию больше, чем всякое другое искусство, – писал Корней Иванович в книге «От двух до пяти», – и знают на опыте несравненные радости, которые дает она тем, кто умеет наслаждаться ею».
Говоря о неумелых педагогах, по невежеству и неумелости убивающих в детях чувство стихотворного ритма и тем лишающих детей возможности принять наследие великих поэтов, он продолжал:
«Неужели никому из них (новым поколениям детей. – Л. Ч.) не суждена величайшая радость: читать, например, «Медного всадника», восхищаясь каждым ритмическим ходом, каждой паузой, каждым пиррихием? Неужели это счастье, столь услаждавшее нас, будет для них уже недоступно? Вправе ли мы эгоистически пользоваться этим счастьем одни, ни с кем не разделяя его? Не обязаны ли мы передать его детям?»[4]
Счастье, счастье, счастье… Нет, он не пользовался им эгоистически. На куоккальских морских прогулках он от щедрот своих передавал эти радости нам:
Дикою, грозною ласкою полны,
Бьют в наш корабль средиземные волны.
Вот над кормою стал капитан:
Визгнул свисток его. Братствуя с паром,
Ветру наш парус раздался не даром:
Пенясь, глубоко вздохнул океан!
Мчимся. Колеса могучей машины
Роют волнистое лоно пучины.
Парус надулся. Берег исчез.
Наедине мы с морскими волнами;
Только что чайка вьется за нами
Белая, рея меж вод и небес.
……………………………………..
Много земель я оставил за мною;
Вынес я много смятенной душою
Радостей ложных, истинных зол;
Много мятежных решил я вопросов,
Прежде, чем руки марсельских матросов
Подняли якорь, надежды симво́л!
……………………………………..
Нужды нет, близко ль, далеко ль до брега!
В сердце к нему приготовлена нега.
Вижу Фетиду: мне жребий благой
Емлет она из лазоревой урны.
Завтра увижу я башни Ливурны,
Завтра увижу Элизий земной.
Сколько тут непонятных слов и названий! Фетида, емлет, Элизий, Ливурна! А он не объяснял ничего, ровнехонько ни единого слова, только торжественно возглашал: «Баратынский». И мы вместе с ним отдавались энергии ритма, наверное, не менее мощной в этих стихах, чем энергия ветра.
«Парус надулся. Берег исчез».
Думаю, если бы кто-нибудь из нас – я, шестилетняя, или Коля, девятилетний, сами попробовали бы прочесть эти стихи, мы споткнулись бы на первой Фетиде и отложили в сторону книгу. Но читал нам он. И в его чтении, хотя он и не объяснял ничего, мы понимали не только красоту великого произведения искусства, красоту звуков, ритмических ходов, но и общий смысл, то, что можно условно назвать содержанием. Не смысл отдельных слов или строк, а то, что содержится в причудливом сплетении их, в строках и в строфах, в которые они сплавлены силою ритма.
Ритм – лучший толкователь содержания. И этот толкователь, отчетливо выведенный наружу голосом чтеца, растолковывал нам, что речь тут идет о воле человека, радостно пересекающего океан, о счастливой победоносной воле, противоборствующей бурным волнам, о том, что человек этот скоро увидит нечто еще более прекрасное, что зовется дивным и непостижимым именем: Элизий.