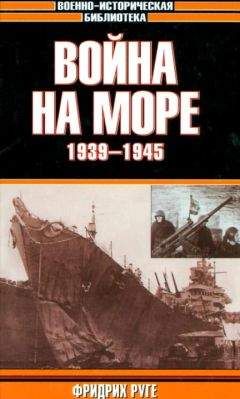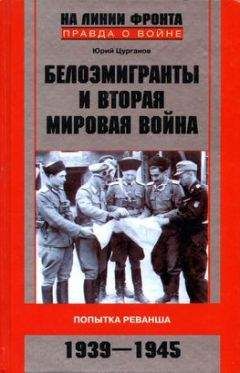Олег Гордиевский - Следующая остановка - расстрел
Для моего отца самое страшное время настало, когда начали исчезать не только люди «сторонние», но и работники НКВД. Аресты казались случайными. Процесс получал толчок к движению в самом себе, поскольку арестованные делали чудовищные признания, только бы избежать дальнейших пыток. Когда следователи задавали вопрос: «Кто еще состоял в заговоре?», люди называли первые приходившие в голову имена. Нельзя было предугадать, кто предаст тебя: человек, с которым ты просто поспорил много лет назад, мог донести на тебя как на врага народа, террориста, шпиона, антисоветчика, тайного троцкиста. Одной из жертв стал тот самый поляк, знакомый моих родителей, который руководил экспедицией на Кавказ. Как и большинство членов Коммунистической партии Польши, живших в изгнании в Советском Союзе, он был арестован и расстрелян как иностранный шпион.
Мой отец никогда не говорил со мной о том времени, но мать и бабушка вспоминали, как они были напуганы, как ночами лежали без сна, прислушиваясь к топоту сапог, когда арестные команды поднимались по лестнице дома, где они жили. Четвертая часть из двадцати восьми квартир подверглась этим нашествиям.· Обычно первым увозили главу семьи, а потом возвращались за остальными домочадцами. В худший период с весны 1937-го до осени 1938-го произошло пятнадцать таких визитов. Жертв увозили в черных машинах, так называемых «воронках».
Моя мать была слишком умна для того, чтобы принимать пропаганду на веру. Ей не промывали мозги в учреждении, она не сидела на партийных собраниях и семинарах и не слушала бесконечные речи, поэтому понимала, что не может существовать такое количество подлинных врагов народа, как объявляют власти: просто не бывает в реальности столько преступников и предателей. Но когда она пыталась поделиться сомнениями с отцом, он отмахивался, а порой даже негодовал. Цитировал постулат: «НКВД всегда прав!» — и заявлял, что, раз кого-то арестовывают, значит, есть для этого серьезные основания. Гораздо позже, когда я расспрашивал его о принципах работы НКВД в те дни, он отвечал: «Думается, главным принципом была вербовка агентов или тайных информаторов», Это была правда, так как в тридцатых годах число доносчиков стало огромным, и ходили слухи, что НКВД считает своей почетной обязанностью превратить каждого третьего взрослого человека в информатора. И все-таки, я полагаю, что вера моего отца в коммунизм подверглась серьезному испытанию из-за жестокости сталинского режима.
Наша семья от репрессий не пострадала, но кара постигла моего дядю Александра, старшего брата матери, агронома, которого арестовали в 1938 году, объявили врагом народа и приговорили к десяти годам заключения в лагере в Восточной Сибири. Кто-то, видимо, донес на него за критические высказывания по поводу коллективизации сельского хозяйства. Дядя, однако, сумел извлечь некоторые преимущества из своего несчастья: прекрасный огородник, он начал выращивать овощи и стал одним из самых влиятельных заключенны в лагере, поставляя свежие овощи к столу командиров КГБ. В 1948 году, когда срок его заключения истек, он теоретически сделался свободным человеком, но не получил разрешения вернуться домой и оказался в ссылке. Не усматривая и в этом трагедии, он возглавил предприятие по выращиванию овощей в оранжереях и стал обеспеченным человеком. После смерти Сталина в 1953 году ему разрешили приехать в Москву, и я впервые увидел этого веселого и энергичного человека, полного планов на будущее. Он рассказал мне, что всегда любил пиво, но за десять лет в лагере не выпил ни капли алкоголя. Лагерный городок, отрезанный от шоссейных и железных дорог, был так далек от цивилизации, что завозить туда пиво (в котором 95 процентов воды) или даже водку (60 процентов воды), считалось неоправданно дорого. Единственно разумным было ввозить спирт, в котором 96 процентов алкоголя, и его доставляли из Хабаровска, а иногда похищали из больниц и с авиационных баз. Вопреки, а может, благодаря своему долгому воздержанию дядя Александр превратился в истинного знатока и ценителя пива и, будучи в Москве, решил во что бы то ни стало перепробовать все имевшиеся в продаже сорта.
Увы, через два года он умер от сердечного приступа, его здоровье было подорвано лагерной жизнью. После его ареста в 1938 году жена его оставалась в Самарканде; в должный срок он узнал, что она с ним развелась, и сошелся с женщиной, тоже узницей. Эта приветливая и добрая женщина пережила его и часто нас потом навещала, став членом семьи.
После смерти дяди Александра бабушка решила бороться за его реабилитацию, чтобы обелить его имя и вернуть конфискованную собственность. Дело шло медленно, потому что власти были засыпаны тысячами подобных заявлений; но Лукерья Григорьевна, не зная устали, писала письма, заполняла анкеты и ходила по государственным учреждениям. К тому времени ее так скрутил ревматизм, что ходила она согнувшись почти под прямым углом, держа руки за спиной у основания позвоночника. Бабушка страдала от сильных болей, но воля ее была неколебима, и в конце концов она добилась документа о реабилитации Александра.
Сильное влияние оказал на меня и дядя Константин, младший брат матери, простой, скромный человек, далеко не лишенный здравого смысла. Он был ветеринаром-практиком, и, в то время как в чести был биолог-шарлатан Трофим Лысенко с его бредовой теорией, утверждавшей, что у растений не существует генов, Константин, бывая у нас, говорил: «Это же чепуха! Невероятно! Как его могут слушать? Разумеется, гены существуют. Мы знали о них еще до войны». Слушая его здравые рассуждения, я начал проникаться духом отрицания общества, в котором преследование ученых, говорящих правду, — самое обычное дело.
Я родился в Москве 10 октября 1938 года, когда самый черный период репрессий шел к своему завершению, но мои первые туманные воспоминания относятся к осени 1941 года, когда мне было около трех лет. Немцы тогда бомбили Москву, и во время воздушных налетов нас с братом уводили под своды недостроенной станции метро, которую использовали как бомбоубежище. Эскалаторы не работали, и мы подолгу спускались по ступенькам в набитый людьми туннель.
Мой отец во время войны был политработником и выступал с лекциями перед военными. Когда 22 июня 1941 года гитлеровские войска напали на Советский Союз, он был уже в годах (45 лет) и страдал близорукостью, поэтому на фронт не попал и в боях не участвовал, чего, по-моему, втайне стыдился. Но когда я подрос, узнал от своего двоюродного брата Валентина, каким блестящим оратором был отец. Шестнадцатилетним юношей Валентин побывал на одном из выступлений отца в летнем театре. Сорок пять минут тот держал аудиторию в напряженном внимании, рассказывая о международном положении и о ситуации на фронтах. Говорил с неизменным блеском, начав на высокой ноте, ровно и уверенно вел разговор, почти до конца и завершал лекцию крещендо в трех лозунгах, провозглашенных Сталиным и ставших ритуальными: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» Люди аплодировали ему стоя. Валентин был потрясен способностью отца владеть аудиторией и воспламенять ее.