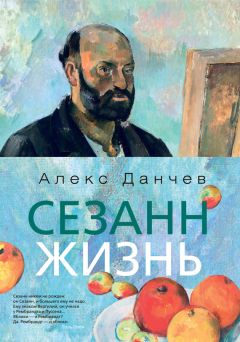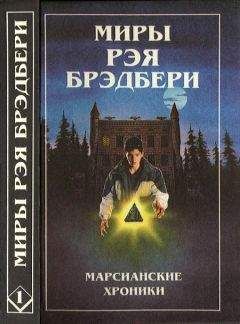Сезанн. Жизнь - Данчев Алекс
Взаимоотношения Сезанна с Золя были главным стержнем эмоциональной жизни писателя, образно говоря, с колыбели до могилы. Это был один из самых продуктивных творческих союзов – столь же интимный, болезненный, нерушимый, волнующий и столь же непостижимый, как любой творческий союз в анналах модернизма. Нам неизвестна подлинная степень родства душ. Эти отношения со временем эволюционировали, как и их внутренний механизм, их modus operandi; их подлинное значение полностью еще не раскрыто; их протяженность во времени, вопреки всему, – загадка. В основе была неискоренимая tendresse – нежность. Эти двое мужчин любили друг друга… так и хочется сказать, как братья. И продолжали любить вопреки всему, что между ними происходило, – даже после выхода «Творчества» (1886), романа о несостоявшемся художнике, имеющем подозрительное сходство с Полем Сезанном, романа, который, как считается, стал причиной фатального разрыва. Их чувство друг к другу крепло в общих переживаниях, в самораскрытии, в общей судьбе, когда, повзрослев, они наперекор обстоятельствам стали художниками-творцами, вооруженными инструментами своего ремесла – пером и мастихином – и защищенными броней темперамента. Сезанн охарактеризовал стиль своих юношеских творений как couillarde – «дребедень», «белиберда», тогда как сборник первых критических сочинений Золя получил название «Mes Haines» («Что мне ненавистно»).
Отношения их выковывались в превратностях судьбы, в школе ее тяжелых ударов и строились на глубинной общности, на чувстве социальной и культурной неприкаянности, граничившем с положением изгоя. По характеру они были как два полюса, отмечал впоследствии Золя, но каждый лелеял своенравное чувство непохожести на других, оторванности от стада, страстное желание приблизиться к самому себе, стать, как писал Ницше, тем, кто ты есть, – кем-то отдельным, неподдельным, самобытным. «Так или иначе я тоже должен найти какой-то способ создавать вещи… реальные вещи, происходящие из ремесла, – рвал себе душу Рильке в аналогичный кризисный момент. – Так или иначе я тоже должен отыскать тот мельчайший простейший элемент, клетку лично моего искусства, внятные нематериальные средства для выражения всего» {77}. Чем это чревато, ни Сезанн, ни Золя не имели ни малейшего представления.
Путеводную нить им, пожалуй, мог дать титан Флобер. Золя знал Флобера лично. Сезанн был очарован его романом «Искушение святого Антония» (1874), впервые опубликованным в нескольких номерах журнала «Артист» (1856–1857), который читала его матушка. Роман моментально удостоился похвалы его кумира Бодлера. На сюжет романа Сезанн в семидесятые годы выполнил несколько картин и рисунков. Возможно, он отождествлял себя с Антонием. Он чувствовал в писателе родственную душу. Моне впоследствии назовет Сезанна «Флобером в живописи, немного неуклюжим, упрямым, непреклонным… не чуждым проб и ошибок гения, упорно пытавшегося уловить что-то свое» {78}.
«Во всем есть нечто неизведанное, – объяснял Флобер молодому Мопассану, – ведь мы приучили свои глаза видеть в предмете, на который мы смотрим, лишь то, что в нашей памяти ассоциируется с представлением, сложившимся о нем у людей до нас. Даже в самом малом имеется что-то непознанное. И мы должны это найти». Прекрасное напутствие начинающему художнику! Флобер брал скорее проницательностью, нежели интуицией, как выразился Мопассан {79}. Вывод читался между строк: требуется прилежание, усердие и банальный упорный труд. Одно из ранних сезанновских писем Золя начинается с покаяния и шутливо-классического наставления: «Трудись, mon cher, nam labor improbus omnia vincit (ибо усердие и труд все перетрут)», но сам он проникся этим призывом лишь спустя годы, следуя примеру Писсарро {80}. Склонный всегда брать быка за рога Золя, напротив, довольно рано пришел к пониманию того, что искусство сопряжено с тяжким трудом. Еще в юности он втолковывал Сезанну, что «в художнике два человека: поэт и ремесленник. Поэтом рождаешься, мастером становишься» {81}. Последнюю фразу в «Творчестве» произносит сам Золя-персонаж. Он только что похоронил своего лучшего друга и охвачен горем, но время идет – уже одиннадцать утра: «Все, за работу!»
Вначале друзья без умолку болтали обо всем на свете, но больше всего о своих томлениях. О любви они говорили, словно примеряя ее на себя. Обменивались книгами и цитатами. Оба проглотили «Любовь» Мишле. «Любовь, о которой пишет Мишле, чистая, благородная любовь, в принципе возможна, – просвещал Сезанн друга, – только встречается очень редко». Золя отвечал цитатой из Дантова «Ада»: «Любовь, любить велящая любимым» – и пространным рассуждением о юношеской любви: «Молодые люди страшно заносчивы, поскольку любовь – одно из прекраснейших свойств юности, они наперебой твердят, что не любят, что их затянуло в трясину порока. Да ты и по себе это знаешь. Заикнись кто в школе, что он признаёт платоническую любовь – то есть нечто святое и поэтическое, – разве не будут смотреть на него как на сумасшедшего?» {82} Принципы, которые провозглашали друзья, мысли, которыми они обменивались, навсегда скрепили и определенным образом сформировали их отношения. И когда пришла пора для творчества, каждый сообразовывался с тем, как другой оценил бы его творение. Они глубоко укоренились в воображении друг друга, они населяли произведения друг друга. Каждый гляделся в другого, как в зеркало. Но они поступали как художники-творцы, что-то смешивая и меняя по необходимости.
Любимым развлечением Сезанна было чтение. В молодые годы он открыл для себя Стендаля – не только «Красное и черное» (1830) и «Пармскую обитель» (1839), но и захватывающую «Историю живописи в Италии» (впервые вышла анонимно в 1817 году, а широкой читательской публике стала доступна лишь в 1854‑м) – важнейшего автора важнейшего произведения, которое он читал и перечитывал на протяжении всей жизни. Стендаль – писатель, которого можно было смаковать. «Я купил очень интересную книгу, – сообщал Сезанн в письме к Золя в 1878 году, – полную тонких наблюдений, остроумие которых даже не всегда до меня доходит, я это чувствую, но зато сколько сведений и подлинных фактов! Это книга Стендаля „История живописи в Италии“, ты ее, конечно, читал, а если нет, то позволю себе ее рекомендовать. Я читал ее в 1869 году, но плохо читал и сейчас перечитываю в третий раз» {83}. Он был великий «перечитыватель» – книг и картин, людей и природы. В данном случае автор интересовал его не меньше самой книги. Личность Стендаля служила прекрасным материалом для изучения гордости и тщеславия, присущих этому человеку, «разрывающемуся – говоря словами Валери – между безмерным желанием угодить и прославиться и маниакальным стремлением быть самим собой, смотреть на все своими глазами, идти своим путем. Он ощущал глубоко засевшую в нем острую шпору литературного тщеславия, но где-то еще глубже – странное назойливое покалывание абсолютной гордости, не желающей зависеть ни от чего, кроме самой себя» {84}.
С большой вероятностью можно предположить, что и Сезанн испытывал нечто подобное. Он намеревался найти собственный путь, смотреть на все своими глазами, выбрать свое время. В положенный срок он покрылся защитным панцирем абсолютной гордости; он стал финансово независим; он оторвался от своих современников. Он шел один. И все же помощь в трудную минуту была ему необходима. Он нуждался в моральной поддержке. Так он это формулировал, так понимал. Он искал постоянства, сочувствия истинно верующего – верующего в него, Поля Сезанна, и желательно ничего взамен не требующего. Когда ему было около шестидесяти, он написал портрет Анри Гаске (цв. ил. 58). Гаске был одним из самых старых его друзей – булочник, любитель покурить трубку, плоть от плоти Экса, само воплощение постоянства, каким оно представлялось Сезанну: un stable [9], отзывался он о приятеле без лишних слов. Эта натюрмортная стабильность была для Сезанна одновременно и физической, и метафизической: он смотрел на сидевшего перед ним друга как на скалу или предмет мебели, который где стоял, там и будет стоять, и в то же время видел в нем l’homme intégral [10], принципиальное постоянство, этическое целое. Анри Гаске был олицетворением гармонии. Сезанн превозносил гармонию. «Я все это чувствую, – с жаром говорил он своему другу, – когда смотрю, как ты потягиваешь свою трубочку». Он не уставал повторять, что этот курильщик трубки оказал ему огромную услугу: «Ты моя опора… моральная поддержка. ‹…› Я хотел бы это передать, найти нужные оттенки, единственно верный тон, чтобы это выразить. Моральная поддержка! Вот чего я искал всю жизнь» {85}.