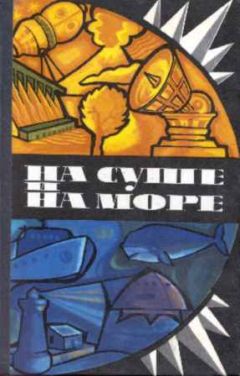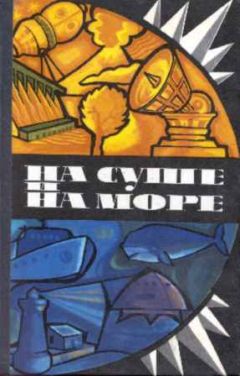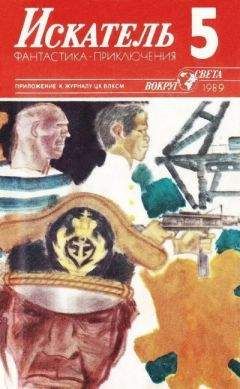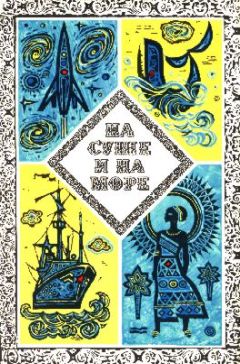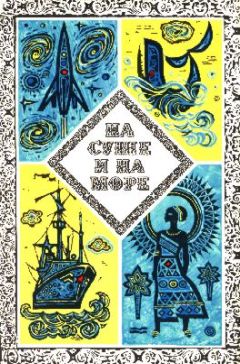М. Дубинский - Женщина в жизни великих и знаменитых людей
Кто была Лаура, оставшаяся в истории литературы вечным памятником женской красоты и грации? Долгое время думали, что и она представляет собою не что иное, как плод поэтического воображения, подобно тому, как это произошло с Беатриче. Для примера укажем хотя бы на Георга Фойхта, который, не отрицая того, что существовала какая-то Лаура, внушившая поэту минутное чувство, прямо заявляет, что со временем чувство это сделалось отвлеченным и Лаура превратилась в образ, к которому он приурочивал свои поэтические вымыслы. Один из современников и друзей Петрарки, Джакомо Колонна, превосходно знавший поэта, не раз говорил в шутку, что Петрарка выдумал прекрасное имя Лауры только для того, чтобы оно могло его прославить и чтобы все говорили о нем. Находились также люди, которые утверждали, что поэт выбрал это имя потому, что оно напоминает о лаврах[40]. Все это, конечно, не заключало бы в себе ничего невозможного, если бы в стихах знаменитого флорентийца не проглядывала истинная страсть – коварная предательница всякой любви к реальной женщине. К тому же, позднейшие исследования привели к заключению, что Лаура – живое лицо. Поэт в первый раз встретился с нею в церкви в Страстную Пятницу 1327 года и тотчас же страстно в нее влюбился. Была ли она в это время замужем? Одни говорят, что была, другие это отрицают. Вряд ли, однако, можно думать, что Лаура могла внушить Петрарке, такое сильное чувство, будучи женою и даже матерью нескольких детей, как утверждают третьи. Любовь к замужним женам, как мы увидим ниже, представляла во времена Петрарки вполне обычное явление, но она вряд ли могла сразу же проявиться в такой возвышенной, почти неземной форме, если бы поэт увидел предмет своего сердца в то время, когда Лаура уже была тронута неизбежным влиянием ласк, хотя бы и освященных браком. Он, несомненно, увидел ее девушкой, и если продолжал любить впоследствии, когда Лаура была матерью многочисленного семейства (по словам одних, у нее было девять, а по словам других – даже одиннадцать детей), то только потому, что чувство было слишком глубокое и сроднилось с его душою. Словом, повторилось то же самое, что мы видим на примере Данте.
Встреча произошла в Авиньоне, где поселился отец Петрарки после его изгнания из Флоренции, и вскоре весь город узнал, что Петрарка влюблен до безумия. Он не скрывал своего чувства (тогда поэты вообще не скрывали своих чувств и всенародно выносили их на суд публики). Наоборот, влюбленный молодой человек стал писать восторженные сонеты, в которых радовался, восторгался, плакал, жаловался в таких поэтических выражениях, что не обратить на них внимания нельзя было. Лаура, конечно, не осталась глуха к его излияниям. Ей очень льстило, что талантливый поэт мог увлечься ею, но она была слишком целомудренна для того, чтобы пользоваться своей властью над человеком, который никогда не должен был знать счастье разделенной любви, так как она была замужем. И вот началось то же самое, что произошло между Данте и Беатриче. Петрарка вздыхает, он следит за своей возлюбленной, подмечает все ее движения, запечатлевает в памяти каждое ее слово и с уст его в то же время льются восторженные гимны, полные любви и отчаяния:
Ты, чья душа огнем любви озарена, –
Нет для тебя достойных песнопений,
Ты вся из кротости небесной создана,
Ты от земных свободна искушений.
Ты пурпур роз и снега белизна,
Ты красоты и правды светлый гений.
Каким блаженством грудь моя полна,
Когда к тебе в порыве вдохновений
Я возношусь….О, если бы я мог
Тебя прославить в звуках в этих строк
На целый мир!.. Но тщетное желанье!..
Так пусть хоть дам, в стране моей родной,
Где блещут выси Альп, где море бьет волной,
Твердят Лауры нежное названье.[41]
Нельзя сказать, чтобы чувства Петрарки были целомудренны. Как человек и идеалист, он стоял ниже Данте, и не мудрено, если его любовь, подогретая пылким темпераментом, вспыхнула вдруг ярким огнем ничем неукротимой страсти. Впрочем, понятия того времени не исключали полного наслаждения любовью, не исключали даже в том случае, если женщина принадлежала другому. Любовь к замужним женщинам была даже предпочтительнее любви к девушкам и – что более всего удивительно – мужья не только не возмущались настойчивыми ухаживаниями какого-нибудь поклонника его жены, но даже покровительствовали им, давали им возможность входить в довольно близкие отношения. И это весьма понятно: муж, открывавший другим доступ к своей жене, открывал тем самым также и себе доступ к чужим женам… Сладострастно было средневековое общество и недаром оно именно создало безграничный культ любви, доведя его до крайних пределов. Можно сказать, что рыцарь по отношению к женщине играл почти такую же роль, как вассал по отношение в ленному владыке. Когда последний отходил ко сну, вассал должен был находиться в его спальне; когда женщина собиралась идти спать, рыцарь также отводил ее в спальню. Это не скрывалось и считалось обыкновенным делом. Конечно, рыцарь должен был быть скромен. Служение любви, как служение искусству, не требовало суеты, и, по понятиям того времени, рыцарь должен был без страха и волнения присутствовать при том, как повелительница его сердца скидывает с себя платье, чулки, может быть, меняет белье и ложится в постель. Это был последний акт, по окончании которого рыцарю предписывалось удалиться, но он в то же время являлся коварным стимулом к обходу неумолимого предписания, заставлявшего покидать возлюбленную именно тогда, когда обладание ею было так близко и возможно. Вот почему впоследствии установился новый обычай, дававший женщине возможность допускать в свои объятия рыцаря на всю ночь, если он даст клятву не выходить за пределы дозволенного. Клятва, конечно, давалась, но не нарушалась ли она под влиянием запретной близости и бурных страстей? Об этом знали только темные завесы, как стражи, охранявшие уединенную постель средневековой женщины…
Лаура не принадлежала к категории женщин, признававших этот обычай. Да и культ любви, проникнувший в Италию с севера, принял там более облагороженную форму, о которой мы упомянули выше, говоря о времени появления «Божественной Комедии» Данте. Может быть, этим и объясняется непрерывность любовного экстаза Петрарки, удовлетворенная страсть которого, конечно, не заменила бы выразиться в упадке душевного напряжения, а вместе с тем и в понижении творческого полета. Тем же, по всей вероятности, объясняется и разнообразие чувства самого поэта, чувства, охватившего всю душу Петрарки, со всей ее сложной системою страстей, борьбы, разочарований. Сам Петрарка это превосходно выразил в одном из своих сонетов: «Любовь меня подстрекает и в то же время удерживает, придает мне бодрость и устрашает, жжет и холодит меня, ласкает и презирает, зовет и гонит, преисполняя иногда надеждою, иногда горем». И в другом: «Я не нахожу мира и нет у меня ничего, что заставляло бы меня воевать. Я витаю выше небес и ползаю по земле, никого не прижимаю к себе и держу весь мир в своих объятиях. Я смотрю без глаз. У меня нет языка, но я кричу. Я сгораю желанием погибнуть и требую помощи. Я ненавижу себя самого и люблю других».
К сожалению, прошлое скрыло от нас настоящий портрет Лауры, так как портреты ее, хранящиеся в Милане и Флоренции, и даже знаменитый барельеф дома Перудзи не могут считаться точным изображением красавицы, которой суждено было получить бессмертие в сонетах Петрарки. Во всяком случае, как эти мнимые или действительные портреты, так и изображения Лауры на стенах итальянских церквей, на миниатюрах рукописей, в мраморе, приписываемом Симону Мемми, дают понятие не столько о красавице, сколько о хорошенькой женщине с симпатичными, но далеко не классически правильными чертами лица. Она быстро отцвела, чему, конечно, не мало содействовало рождение нескольких детей, но Петрарка, как мы уже упомянули, встретил ее в расцвете молодости, когда она действительно могла приковать к себе сердца, даже и не столь пламенные, как сердце флорентийского поэта. Об этом свидетельствует и внезапность чувства Петрарки. До встречи с Лаурою он не признавал любви и даже издевался над нею, но, увидев в церкви Лауру, тотчас поддался ея влиянию. В нем происходит резкая перемена. Поэт, считавший себя свободным от любовных чар, вдруг делается беспокойным. Он плачет, когда не видит предмета своей страсти, а увидев, плачет еще сильнее, потому что робость не дает ему сказать, какая страсть обуревает его сердце. Ночь не приносит ему покоя. Он мечется в постели и бредит. У него остается одно средство излить свои чувства – стихи, я он пишет пламенные панегирики женщине, овладевшей его существом. Лаура, конечно, знает о его страсти, но не дает ей разгораться сильно. Оставаясь верною своему мужу, она, однако, не отталкивает поэта совершенно и только сдерживает его пламенные порывы. Может быть, это именно и дало повод Маколею несправедливо назвать Лауру «пошлой бездушной кокеткой» и даже приписать ее влиянию мнимо-извращенный вкус (цветистость слога), портящий будто бы эротические стихотворения Петрарки. Лаура не могла быть пошлой кокеткой[42], потому что никогда еще пошлые кокетки не внушали мужчинам с высоко развитым умом и художническими потребностями столь чистой и возвышенной страсти, как страсть Петрарки. Не забудем, что Петрарка не расстался с Лаурою, подобно Данте, в то время, когда она находилась во цвете красоты и прелести. Он знал ее уже состарившейся, когда ей было 35 лет – возраст, равный старости под знойным небом Италии, и тем не менее чувство его не ослабло. Кроме того, разве Лаура с самого начала не старалась совершенно удалить от себя влюбленного поэта? Она стала носить вуаль, желая этим устранить самый повод к пламенным порывам. Вуаль, конечно, не спас ее от любовных натисков поэта, но он во всяком случае сослужил хорошую службу: Петрарка понял, что ждать ему многого нельзя. Впоследствии Лаура стала снисходительнее к своему возлюбленному: она начала отвечать на его поклоны, сама однажды поклонилась первая, а увидев в одно прекрасное время поэта замечтавшимся в ее присутствии, она даже фамильярно закрыла ему лицо рукою. Во всем этом, конечно, можно усмотреть некоторую степень кокетства, если захотеть; но нельзя ведь отрицать, что и помимо кокетства есть много мотивов, которыми объясняется поведение Лауры. Наконец, история с перчаткою совершенно рассеивает всякие сомнения. Лаура как-то уронила перчатку в присутствии Петрарки; тот ее поднял и хотел оставить у себя, но она категорически запротестовала и взяла перчатку назад. Пошлая кокетка никогда не лишила бы себя такого верного орудия, как перчатка любимой женщины в руках влюбленного, и французский академик Мезьер, изучивший жизнь Петрарки на основании новых документов, уже куда более близок в истине, когда, не отрицая некоторого кокетства в Лауре, говорит, что это было кокетство, присущее всякой женщине, не исключая самой честной и благородной.