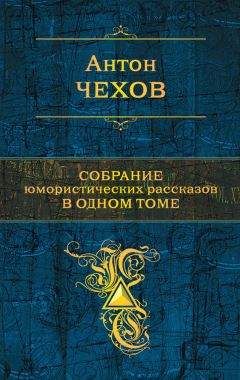Борис Лазаревский - А. П. Чехов

Обзор книги Борис Лазаревский - А. П. Чехов
Б. А. Лазаревский
А. П. Чехов
[…] С пятнадцати лет я мечтал познакомиться с А.П., но увидеть его и говорить с ним мне пришлось только в сентябре 1899 года.
Чехов уже переехал в Ялту и жил на своей еще недостроенной даче. Я только что поступил на службу в один из крымских городов и бывал в Ялте довольно часто.
Все слышанное от Чехова я записывал в тот же день в дневник и так делал после каждой встречи.
В 1899 году вышла первая книжка моих рассказов. Местная газета их беспощадно высмеяла. Я решил спросить мнения Чехова, написал ему письмо и послал мою книжку, а через несколько дней отправился к нему сам.
Я ждал сухого приема и наставительного тона большого писателя и поэтому волновался. Но услышал я от человека, который видел меня в первый раз, совсем другое[1].
— Послушайте, ну как же можно было так убиваться из-за того, что в газете кто-то там написал эту статейку? Мало ли какой чепухи о нас не пишут…
Слова «о нас» прозвучали в моих ушах особенно сладко, и я понял, что со стороны Чехова они прежде всего акт его доброты.
— Нет, это пустяки, — продолжал А.П., - и обращать на них внимания не стоит. Худо, если о книге совсем не пишут. А вы разве не на железной дороге служите? — вдруг спросил он.
Вопрос этот был задан потому, что большинство моих рассказов касалось жизни железнодорожных машинистов.
— Теперь нет, — ответил я и объяснил, где служу.
— Гм… Ваши рассказы, как рассказы… Послушайте, вы сделали громадную ошибку, что издались в провинции. Этак нельзя. Останетесь незамеченным. Издавать нужно непременно в столице. И для рецензий нельзя посылать так, зря. Ведь вы знаете, как в редакциях? Придет какая-нибудь барышня, заведующая объявлениями, увидит, что получена новая книжка, и возьмет ее почитать… Вот вам и рецензия! Вы пошлите в «Жизнь», к Поссе. А зимой обождите посылать до тех пор, пока я не буду в Москве… Вы уроженец какой губернии?
— Я родился в Полтаве.
— Это слышно. Я тоже южанин. Только я вырос возле моря, хоть и возле паршивенького, но моря…
Боясь помешать Чехову, я спросил:
— Может быть, вы, Антон Павлович, собираетесь в город?
— Да, да. Сейчас пойду. У нас сегодня обед, на котором будет Максимов. Выйдем вместе…
Чехов стал собираться, а я ходил по комнате и глядел на него. Уже и тогда приходилось читать в газетах, что он болен, но заметно этого не было. Его слегка загорелое лицо не казалось изможденным, а движения были сильны и уверенны. Внимательные глаза не смотрели грустно. Слушая его голос, можно было заключить, что он обладает великолепным певучим басом. За все это время Чехов кашлянул всего один раз, — как будто у него запершило в горле. Сравнительно со всей его стройной фигурой, только ноги были несколько худы в коленях.
Антон Павлович надел летнее пальто, мягкую шляпу, взял в руки зонтик, и показался мне таким изящным. Мы вышли и стали спускаться вдоль грязных татарских домиков. По небу ходили тучи, а далекое море казалось серым. Темными пятнами выступили на нем броненосцы пришедшей в этот день в Ялту эскадры. Хорошо дышалось влажным, чуть пропитанным хвоей кипарисов, воздухом. Внизу раскинулся город.
Я сказал, что вся Ялта мне представляется великолепным, но сильно подгнившим цветком магнолии и что, вероятно, люди здесь живут только богатые и счастливые, но бессердечные и развратные. Чехов поднял голову и, посмотрев на меня, вдруг быстро и отрывисто заговорил:
— Что вы, что вы?.. Как можно… Здесь очень много несчастных, много больных… Большинству здесь живется очень тяжело.
— Но вы все-таки один из счастливейших.
— Почему вы так думаете?
— У вас есть средства, есть имя…
— Какие же у меня средства? Кроме бездоходной дачи, — ничего. И где же мое счастье? Я не могу даже жить там, где хочу, и только благодаря своему здоровью должен сидеть в Ялте. Вы Ялты не знаете…
— Да, не знаю, — согласился я.
— Вот то-то же и есть.
Я замолчал и подумал, что Чехов все понимает, а я от радости, что вижу его, говорю, не взвесив предварительно своих слов.
Во второй раз я был у Чехова в ноябре. А.П. был очень озабочен устройством в Ялте санатории для легочных больных и готовил целый ряд писем к разным людям по этому поводу[2].
Запечатав один из конвертов, Чехов спросил о том, что я теперь пишу, и, внимательно выслушав, заговорил.
— Так. Только вот что… Избегайте вы всяких терминов, особенно скоропроходящих. Некоторые слова через пять-шесть лет совсем уничтожаются и потом звучат в рассказе или в пьесе ужасно дико. Вы знаете, не так давно, в Воронеже, я смотрел свой водевиль «Медведь» и от слова «турнюр» пришел в ужас. Теперь это слово уже не существует, и в новом издании я его вычеркнул[3].
Мы помолчали. Затем я рассказал Антону Павловичу о сильном впечатлении, которое произвела на меня только что вышедшая тогда книга Мельшина «В мире отверженных»[4]. Мне казалось, что все произведение выиграло бы от большего беспристрастия автора в изображении всякого рода тюремщиков, потому что поступки говорят сами за себя сильнее, чем комментарии к ним.
— Что же делать? Ведь нельзя, в самом деле, требовать от человека, который пробыл столько лет в каторге, хладнокровной оценки своих мучителей…
— Да, это трудно…
В тот же день вечером я зашел к Чехову попрощаться. Антон Павлович ходил по кабинету взад и вперед и, увидев меня, сказал взволнованным голосом:
— Знаете, скверная новость…
— А что такое?
— Последние известия, что Толстому хуже. Умрет, должно быть. Ведь этакий он колосс в искусстве! Знаете, есть люди, которые боятся делать гадости только потому, что жив еще Толстой. Да, да, да…[5]
Потом Чехов снова стал жаловаться на гнетущую тоску, которую на него нагоняет Ялта. Помолчав, он спросил:
— Вам нравятся рассказы Горького?
— Да. Особенно «Старуха Изергиль».
— Он не только писатель, а еще и поэт. Большой поэт… и какой хороший человек, а между тем многие этого не понимают… — добавил Антон Павлович и прошелся взад и вперед.
Я облокотился на его письменный стол, на котором лежала какая-то рукопись.
— Меня интересует, много ли вы перечеркиваете, когда пишете. Можно посмотреть? — спросил я.
— Можно.
Я подошел к столу с другого конца. Обыкновенный лист писчей бумаги был унизан ровными, мелкими, широко стоящими одна от другой строчками. Слов десять было зачеркнуто очень твердыми, правильными линиями, так что под ними уже ничего нельзя было прочесть. Мне бросилась в глаза фраза: «Херес был кисловатый, пахло от него сургучом, но выпили еще по рюмке…»[6]