Сергей Андреевский - Книга о смерти. Том I
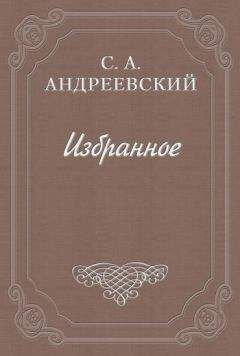
Обзор книги Сергей Андреевский - Книга о смерти. Том I
Над раскрытой могилой прославленных людей произносят речи. В них обыкновенно говорится, что «безжалостная смерть» похитила этого человека, но что «его дела будут жить». Здесь сказывается и наша хвастливость перед силою смерти, и стремление побудить других людей продолжать без уныния заниматься общеполезными делами. Но и то и другое бесцельно. Никакое хвастовство не запугает смерти, и никакие ее опустошения не остановят здоровых людей в их занятиях…»
Сергей Аркадьевич Андреевский
Книга о смерти. Том I
Пусть, когда закроется книга моей жизни, раскроется моя книга о смерти.
Я ее посвящаю вам, живые, не для того, чтобы омрачить ваше сердце, но для того, чтобы каждый из нас смотрел на свою жизнь, как на непроницаемую святыню.
Нет в жизни ничего поразительнее смерти. Она отрицает все, перед чем мы преклоняемся: гений, красоту, власть. Она делает наше отдельное существование таким бессмысленным, что, собственно говоря, каждому следовало бы сойти с ума от сознания, что он умрет. Но от этого никто с ума не сходит.
Над раскрытой могилой прославленных людей произносят речи. В них обыкновенно говорится, что «безжалостная смерть» похитила этого человека, но что «его дела будут жить». Здесь сказывается и наша хвастливость перед силою смерти, и стремление побудить других людей продолжать без уныния заниматься общеполезными делами. Но и то и другое бесцельно. Никакое хвастовство не запугает смерти, и никакие ее опустошения не остановят здоровых людей в их занятиях. Они будут заниматься потому, что такова уже их природа и что всякая смерть ими забывается, будто она была суждена только покойнику, но не им. Но сколько бы там ни разглагольствовали ораторы, теснящиеся возле дыры с опущенным в нее гробом, об энергии человечества – все-таки всего менее энергии к «делу» может внушить именно этот последний мертвец. Всякий знает, что в агонии, когда мутился его ум, он был совершенно чужд тому делу, которое любил при жизни, и всякий уходит от этой зарытой куклы с сознанием какой-то неразрешимой нелепости. Недоумение это, впрочем, скоро проходит… до нового подобного же случая, когда совершенно заново – сколько бы похорон ни повторилось – возникает и опять так же быстро проходит то же самое недоумение. И так все живут от сотворения мира.
Природа нестерпимо умна, то есть так умна, что мы не только не можем переделать ее законов, но при всем нашем негодовании на нее, при всем нашем страдании от нее, – мы не в силах даже придумать иного устройства мира. Кажется, чего проще – устранить смерть, и все было бы хорошо… Но попробуйте. При настоящем строе все мило, потому что преходимо, – тогда бы все сделалось постоянным и стало несносным. Наша любимая земля, если бы только с нее решительно никогда и никуда ни за какие блага невозможно было уйти, сделалась бы нам столь ненавистною, что мы, сжимая кулаки и стуча головами о камни, изрыгали бы проклятия на те далекие звезды, которые теперь почему-то кажутся нам такими таинственными и сродными. Они были бы от нас еще дальше, чем теперь… Не было бы ни власти, ни религии, потому что никто бы не мог отнять жизни. Встречая постоянно Адама, Клеопатру и Александра Македонского, мы были бы к ним совершенно равнодушны и не имели бы истории. Поэт и художник ничего бы не создавали, потому что у них не было бы побуждений оставить свой след, да и мотивы для искусства совершенно бы исчезли в этой неизменной, неразвивающейся жизни. Все люди имели бы один возраст, и юность утратила бы свою прелесть. Все, что мы называем «благами жизни»: удобство, роскошь, ткани, которые нежат наше тело, колесницы и вагоны, избавляющие нас от утомления, дворцы, заставляющие нас забывать о погоде и климате, – все это не только бы лишилось значения, но едва ли бы и возникло, потому что холод бы нас не простуживал, голод нам не вредил, усталость не изнуряла и т. д. и т. д. Самое различие полов едва ли было бы нужно и возможно, потому что в обновлении человечества, сделавшегося неистребимым во всем его составе, не было бы надобности, а безграничное разложение его было бы очевидно невозможно. Словом, та именно жизнь, которую мы теперь так страстно любим, ни под каким видом не могла бы быть такою, как теперь, если бы не было смерти. Сохранить ее в настоящем ее виде, с устранением из нее смерти, не было бы никакой возможности. И как ни странно, но следует сказать, что та жизнь, которую мы любим, создана не чем иным, как смертью.
Но как бы там ни было – смерть ужасна, отвратительна, непостижима!
И сколько я о ней думал!
Вот история этих мыслей.
Часть первая
I
Туман лежит еще кругом
Над полем детских наблюдений…
Стараюсь вспомнить, когда именно я получил первое понятие о смерти в самом раннем детстве. Для этого нужно рассказать о начале моей жизни.
29 декабря 1847 года, близ Луганска, в селе Александровке Славяносербского уезда, матушка моя разрешилась от бремени близнецами, из которых вторым новорожденным был я.
Александровка принадлежала двоюродному дяде моей матери, богатейшему в том крае помещику Сомову. Сомовский дом был настоящий дворец, с белым залом под мрамор, с гостиными, диванными, бильярдными, угольными, молельнями и всякими другими комнатами, в том числе с «зеленою комнатою», в которой мы с братом родились. Матушка находилась там в центре своего многочисленного родства. Отец в то время переезжал на службу из Тифлиса в Петрозаводск. Невозможно было в такую далекую дорогу, да еще зимою, брать с собою двух крошек. Решили одного из нас, по жребию, оставить на воспитание у матушкиной сестры, проживавшей в Луганске с своим мужем, доктором. Жребий этот достался на мою долю.
Но я не долго оставался на руках у тетки и был передан ею на попечение моей прабабушке, которая перевезла меня в деревню Веселая Гора, в пятнадцати верстах от Луганска[1]. Там-то я и прожил до девятого года, не видав ранее ни отца, ни матери, у которых к тому времени уже было трое неизвестных мне сыновей (в том числе мой близнец) и одна дочь, старшая из всех нас.
Веселая Гора – чудесное, живописное село на берегу Донца, с громадным барским домом в сорок комнат. Если въезжать со стороны Луганска, то приходится спускаться в деревню с горы; влево, на небольшом холме, церковь, окруженная кустами желтого шиповника и опоясанная белым каменным забором. Далее, по главной улице, – хлебный магазин и стеариновая фабрика, а вправо – помещичий дом, белый, двухэтажный, со множеством окон и с балконами на все четыре стороны, причем с балкона, обращенного к саду, две лестницы спускаются до земли. Вслед за домом – Донец. По ту сторону Донца – лес, лес и лес, насколько видит глаз; да и на этом берегу Донца, позади помещичьего сада, такой же густой лес. И когда из дома смотришь на сад, то справа видишь высокую гору.
Здесь я проживал с прабабушкой и ее компаньонкой почти в полном одиночестве, потому что многочисленные потомки прабабушки были постоянно в разброде, а ближайшие члены ее семьи большею частью проживали в Луганске, где в то время поселилось целое общество образованных горных инженеров и где при чугунно-литейном заводе сосредоточилось управление горного округа. В просторных комнатах Весело-Горского дома мы жили втроем, окруженные разнообразною дворнею из крепостных: дворецкий, ключник, староста, нянька, прачка, булочница, птичница, коровница, старухи, приходившие дежурить на ночь, горничные, взрослые и малолетние, и т. д.



