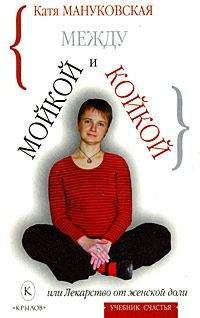Павел Бажов - У караулки на Думной горе

Обзор книги Павел Бажов - У караулки на Думной горе
Павел Бажов
У караулки на Думной горе
В детстве пришлось мне три года провести в Полевском заводе. Было это чуть не полвека тому назад — в 1892–1895 годах.
Жили мы за рекой, почти у самой горы Думной, в небольшом домике, стоявшем на шлаковых отвалах.
Кругом было пустынно и безлюдно.
В той стороне, где теперь высятся многочисленные корпуса криолитового завода и соцгородка, виднелось лишь чуть всхолмленное поле старого Гумёшевского рудника, а за рудником и заводским поселком тянулись темно-синей полосой бесконечные хвойные леса…
Недалеко от нашего дома находилась заводская «дровяная площадь». Для ее охраны на горе Думной была поставлена будка с колоколом. Звон колокола по вечерам казался таинственным, и детское воображение рисовало и связывало с будкой всякие «страшные истории».
— Пойдем на гору сказки слушать, — пригласил меня один из первых моих полевских приятелей.
— Сказки?.. Что я, маленький?
— Пойдем! Сегодня на карауле дедушка Слышко стоит. Он занятно сказывает. Про девку — Азовку,[1] про Полоза, про всякие земельные богатства…
В Полевском заводе тогда медеплавильное производство доживало свои последние дни. Переделочные цехи работали на слитках Северского завода, но тоже с большими перебоями. В этих условиях заводское население усиленно ударилось в поиски золота и хризолитов. Понятно, что это отражалось и в быту.
Об Азовке и Полозе, о кладоискательских приметах и всяких земельных богатствах мне уже не раз приходилось слышать. Но все это было как-то не по-настоящему, без начала, без конца. Послушать об этом заново показалось интересно. Пошел с товарищем на гору и с той поры стал самым ревностным слушателем дедушки Слышко.
Из игр потом вечерами выходил, чтобы не пропустить дежурства этого заводского сказителя.
* * *Звали его Хмелинин Василий Алексеевич, но это лишь по заводским и волостным спискам. Для ребят он был «дедушка Слышко». У взрослых были для него еще два прозванья — Стаканчик и Протча, на которые старик откликался.
Был он почти одинок. «Старуха» — годов на десять его моложе — больше «по людям ходила»: где повивалась, где домовничала… Может быть, поэтому старик всегда был ласков с ребятами и охотно рассказывал им свои затейные сказы.
Годы высушили его, ссутулили, снизили. И только не по росту широкие плечи да длинные руки напоминали, что сила в этом теле была немалая.
Держался старик, однако, бодро, бойко шаркал ногами в подшитых валенках и задорно вскидывал свою белую, клинышком, бороду.
Среди взрослых Хмелинин слыл знатоком «всех наших песков», веселым балагуром, а порой и «подковырой».
* * *На плотине «отдали восемь часов». То же повторилось на колокольне. Третья очередь — Думной горы.
Дедушка Слышко уже взобрался на невысокий помост и ждет, когда замрет вдали последний звук.
Потом размеренно бьет в колокол и приговаривает:
— Знай наших! Тонко, да звонко, и спать неохота…
Отбив, не спеша сходит с помоста, усаживается на крылечке караулки и начинает набивать свою «аппетитную».
Самое спокойное время… В эти часы дед что-нибудь рассказывает. Но, если попросит кто сказку, он всегда поправит:
— Сказку, говоришь? Сказку это, друг, про попа да про попадью. Такие тебе слушать рано. А то вот про курочку-рябушку да золото яичко, про лису с петухом и протча. Старухи маленьким сказывают. Ты, поди, опоздал такие слушать, да и не умею я. Кои знал, и те позабыл. Про старинное житье — это вот помню. Много такого от своих стариков перенял да и потом слыхал. Тоже ведь на людях, поди-ка, жил. И в канаве топтали, и на золотой горке сиживал. Всяко бывало. Восьмой десяток отсчитываю. Это тебе не восемь часов в колокол отбрякать! Нагляделся, наслушался. Только это не сказки, а сказы да побывальщины прозываются. Иное, слышь-ко, и говорить не всякому можно. С опаской надо. А ты говоришь — сказку!
— Думаешь, про тайну силу, правда?
— А то как же…
— А у нас в школе говорили…
— Мало что в школе… Ты учись, а стариков не суди. Им, может, веселей было все за правду считать. Ты и слушай, как сказывают. Вырастешь — тогда и разбирай, кое быль, кое небылица. Так-то, милачок! Понял ли?..
Старик рассказывал так, будто он сам «все видел и слышал». Когда упоминались места, видные с горы, он указывал рукой:
— Вон у того места и упал… — Около дальнего-то барабана главный спуск был. Тут и собрались, а Степан и говорит… — Теперь нету, а раньше, поправее вон тех сосен, горочка была. Змеиная прозывалась. Данило и повадился туда…
Если приходилось слышать сказ во второй или третий раз, легко было заметить, что старик говорил не одними и теми же словами. Порой менялся и самый порядок рассказа, по-разному передавал он и всякие подробности.
Иной слушатель не выдержит — заметит:
— В тот раз, дедушка, ты об этом не говорил…
— Ну, мало ли… Забыл, видно, а так, слышь-ко, было. Это уж будь в надежде — так!
Всю свою долгую жизнь, «пока мога была», старик работал на рудниках и золотых приисках.[2] Жизнь горняка и старателя[3] он «испытал до дна». Все было ему известно, вплоть до «нечаянного богатства». В свои сказы старик вводил многое из того, что сам видал, сам испытал. И наравне с явным вымыслом была в его сказах и чистая правда.
Рассказывая, например, «о старой дороге», он показывал место, где она проходила, хотя никаких признаков ее уже не было. Такая дорога действительно была, судя по историческим документам.
«Старые люди» у Хмелинина живут и действуют близко к исторической правде.
Хозяйка Медной горы, Полоз, его дочери Змеевки[4] — вся эта «тайная сила» действует по-человечески, вполне сознательно: одним помогает, других наказывает, барам и начальству всегда враждебна.
Действиями этой силы старик объяснял многое, что казалось непонятным малограмотному горняку прошлого.
«Исчезла жилка — Полоз отвел; в камне оказалось золото — Змеевка прошла, след оставила; нашел человек редкие по красоте и объему глыбы малахита — Хозяйка горы помогла», и т. д.
В результате сказы Хмелинина можно рассматривать как своего рода историко-бытовые документы. В них не только отразилась полностью тяжелая жизнь старого горняка, но и его наивное понимание «земельных чудес» и его мечта о других условиях жизни, каких — сказитель и сам не знал, не мог представить себе, но только не тех, в каких проходила его жизнь.
Сказы В. А. Хмелинина в свое время никем записаны не были.
Заводские служащие — «прахтикованные техники» или «люди с хорошим почерком и бойким счетом» — не могли, конечно, оценить сказы по достоинству, а те, что «стояли повыше» и были чуть грамотнее, относились пренебрежительно к «каким-то сказам старичонки караульного».