Рустам Мамин - Память сердца
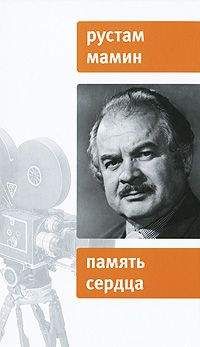
Обзор книги Рустам Мамин - Память сердца
Рустам Бекарович Мамин
Память сердца
Если б Всевышний даровал мне вторую жизнь, я, от сладостных слез к милосердным коленям припав, молил бы оставить мне тех, кто сердцем и душой были со мной на долгом и трудном пути к кино.
Расторгуево
В Москве выпал первый снег. Скучно. Все серым-бело и грязь московская. Хлюпанье на мостовой, на тротуарах, особенно на остановках автобусов, троллейбусов. И длинные-длинные очереди.
Первый снег. Как скучно. Хочется лечь и забыться. А я вспоминаю первый снег из детства…
Мы жили в Подмосковье, в Расторгуеве, на горе слева от станции, в имении Салазкина Владимира Владимировича. Расторгуево тогда – маленький полустанок. По одну сторону путей две будки – мороженщиков Тыртовых и путейщика, которого звали Ахмет. При наступлении сумерек Ахмет внизу фонарного столба что-то крутил, фонарь опускался, путейщик зажигал свечи и продолжал крутить, но уже в обратную сторону – фонарь поднимался. Фонарей на платформе было несколько. Потом как-то взрослые говорили между собой:
– Жалко, Ахмет в темноте, когда зажигал фонарь, попал под поезд…
После этого фонари долго не зажигались, нам с горки были видны только ресторанные огни. Там, недалеко от рельсов, вдоль них, одним боком прилепившись к насыпи, ютился маленький ресторан. Оттуда иногда неслась музыка. Почему я помню?.. В том году (1929-м) родилась моя двоюродная сестра Роза. А мне было три года.
Но все по порядку…
Салазкин в середине позапрошлого века на полустанке Расторгуево приобрел на свои сбережения несколько гектаров живописного дикого бора с вековыми деревьями и, не боясь зверья, упиваясь разноголосицей непуганых птиц, построил здесь, на красивейшем взгорье, свое имение. Вот в этом имении я и жил среди моих многочисленных родственников и имел счастье гулять в заповедном сосновом бору.
В имении было одно здание – каменное, созданное, по-моему, по индивидуальному проекту. Его так точно, продуманно вписали между двумя лесными массивами, что с широкой террасы была видна железная дорога и поезда, шедшие из Москвы. И когда мы смотрели на приближающийся состав, паровоз гудел. Впечатление создавалось такое, будто машинист, увидев нас, давал гудок. Совпадение конечно. Но…
Другие дома находились внутри соснового массива – двухэтажный и флигель. На втором этаже жил дядя по отцу – Ибрагим, на первом, более просторном, – мы; семья наша была большая: только нас, детей, восемь человек. В одноэтажном доме-флигеле жила с семьей старшая сестра.
Салазкин до революции, по разговорам взрослых, был, кажется, министром просвещения. В конце двадцатых годов представители власти дважды приходили, чтобы привести в исполнение приказ о расстреле Владимира Владимировича. Но он был болен, лежал с высокой температурой – и расстрел откладывался. А когда выздоровел, пришли и зачитали ему то ли распоряжение, то ли приказ об отмене исполнения – за подписью Луначарского. Так Владимир Владимирович остался жив.
На тот момент он был уже одинок: революция разбила, раскидала много семей. Вот потому Салазкин и разрешил отцу занять двухэтажный дом с пристройками. А сам жил в каменном доме с террасой.
В тридцатых годах Салазкин переехал в Москву. На Кузнецком Мосту у него было три дома. В одном из них ему было разрешено жить – наверху, под самой крышей. В заставленной мебелью, шкафами до потолка, заваленной книгами комнатушке доживал свои дни бывший министр просвещения России.
А в Расторгуеве, в доме с террасой – уникальном, созданном в гармонии с ландшафтом, по законам архитектурной красоты – должны были разместить правление опаринского колхоза. Но в одну из ночей, метрах в тридцати от дома, председатель этого колхоза, кажется Федоров, был убит. На месте гибели поставили деревянный памятник, потом его заменили кирпичным, крашеным. А потом и вовсе перестали красить. Памятник осыпался. Сейчас на том месте, по-моему, ничего нет. Так в доме с террасой никто и не появлялся до начала войны. А дом сохранился до сих пор. При подъезде к станции Расторгуево из окон электрички видно: он также выглядывает из разросшихся, заматеревших кущ леса. Только немного ушел в землю.
Отец после отъезда Салазкина по каким-то своим соображениям не счел возможным оставаться в имении без хозяина. И мы переехали жить к другу Владимира Владимировича – Григорию Верещагину в поселок Видное…
Сейчас, вспоминая Расторгуево, гляжу в окно салазкинской комнатушки на Кузнецком Мосту и вижу, как и в далекой детской памяти: …первый снег, возвещая о приходе зимы, тихо падает мягкими легкими хлопьями. А на земле от этой первозданной свежести почти ничего не остается. Тает, смешиваясь с грязью…
Когда мы с отцом в очередной раз посетили Салазкина в Москве, он сидел на старом диване. Больной. Отец перед ним – в кресле, и стоять больше было негде. Меня министр посадил подле себя. Они о чем-то долго дружески беседовали, вспоминали; мне показалось, что у Владимира Владимировича временами навертывались слезы. Было почему-то жаль его, хотя я и не понимал, о чем они говорили. Отец всегда чувствовал себя обязанным Салазкину и всячески старался ему помочь. В тот раз он привез Владимиру Владимировичу сваренную мамой курицу, сахар, кофе в серых пакетах, чай. Мне Владимир Владимирович подарил цветные карандаши, открытки…
Почему я вспомнил дядю Салазкина?.. Увлекся. Итак…
Расторгуево. Первый снег. После завтрака меня одели и разрешили пойти гулять. Вышел на улицу, вернее, во двор. А точнее – в сосновый бор, занесенный первым снегом. Была тихая поздняя осень.
Вы можете представить запахи первого снега в сосновом бору? Это не нынешний подмосковный лесок, замусоренный банками, тряпьем и кострищами!
Окутав хвойные вершины многолетних сосен, впитав в себя их ароматы, там наверху, не расплескиваясь, не нарушая утреннего лесного покоя, первый снег медленно, в виде крупных хлопьев бережно укладывается на нижние ветки сосен, пеньки – на все, что лежит на земле неприкрытым. Удивительным, непередаваемым, бодрящим ароматом дышит все… Дышало все!.. Боже мой, как давно это было…
Ко мне подошел двоюродный брат Заки, ему было уже пять лет. Его не интересовали запахи снега, он сообщил:
– У нас доктор. Мама будет рожать мне братика или сестренку. Пойдем смотреть!
Пошли наверх. Смотрели в замочную скважину по очереди. Я увидел доктора в белом. Он стоял перед столом к двери спиной, и виднелась чья-то нога. Жутко, надсадно кричала какая-то женщина. Интересного ничего не было…
Странно. А почему-то помнится! Конечно, тогда нам не дано было понять чуда зарождения жизни, явления на свет нового человека. Но удивительно! Всю жизнь родившуюся сестренку я не воспринимал, как всех привычных: у меня было к ней какое-то особое, необъяснимое отношение, как к чему-то неестественному, чужеродному. Но непостижимую, живую связь плода с материнским чревом я познал довольно рано. Дело в том, что ребенком я очень боялся темноты; мне чудились какие-то глухие стуки, шипения. Было удушающе тесно, хотелось содрать с себя все, вырваться – все это наводило на меня непередаваемый ужас, доводивший до истерики. И тот же доктор позже, осматривая меня четырехлетнего, успокаивал растревоженную моим нервическим состоянием маму. Я не понимал, что доктор говорил ей, его слова я осознал и понял… в мои пятьдесят лет!

