Михаил Филин - Ольга Калашникова: «Крепостная любовь» Пушкина
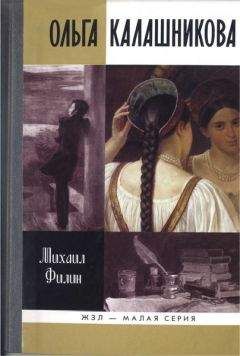
Обзор книги Михаил Филин - Ольга Калашникова: «Крепостная любовь» Пушкина
Возрастные ограничения: 16+
Михаил Филин
Ольга Калашникова: «Крепостная любовь» Пушкина
ПРЕДИСЛОВИЕ
В тридцатые годы XIX века, незадолго до кончины, в наброске плана романа «Русский Пелам» Александр Пушкин зафиксировал: «Эпизод креп<остной> любви» (VIII, 975) [1]. О чём собирался поведать автор — доподлинно неизвестно. Возможно, и даже вероятно: притаившись за спиной героя, он замыслил рассказать нечто сугубо личное, автобиографическое…
А ранее, осенью 1829 года, на обратном пути из Арзрума в Петербург, поэт надолго задержался в Москве. Здесь Пушкин, как водится, общался со многими, однако особенно часто бывал в гостеприимном доме семейства Ушаковых на Средней Пресне. Оно и немудрено: ведь одной из дочерей хозяина, статского советника Николая Васильевича Ушакова, Пушкин уже давно и «сильно увлёкся»[2].
«Прелестную» барышню, вскружившую ему голову, величали Екатериной. На листах альбома её младшей сестры, Елизаветы Николаевны, кавалер тогда же, в конце сентября — начале ноября, оставил, помимо рисунков, пространный полушутливый перечень женских имён. Он вспомнил и перечислил тех представительниц прекрасного пола, которые — в разные годы, в той или иной форме и степени — прельстили его[3]. Так называемый «Донжуанский список», состоящий из двух частей, был сделан карандашом и, скорее всего, за пару приёмов. Позднее сёстры Ушаковы — там же, в драгоценном альбоме (ПД № 1723), — расшифровали отдельные имена. После же факсимильной публикации списка в «Альбоме Пушкинской выставки 1880 года» (1887) помянутые поэтом дамы и барышни стали объектами пристального внимания пушкинистов, которым удалось (иногда, правда, предположительно) идентифицировать ряд лиц.
Благодаря разысканиям учёных (в первую очередь маститого Павла Елисеевича Щёголева) ныне можно с большой долей уверенности утверждать: «Ольга» из второй части пушкинского реестра — это Ольга Калашникова, дочь Михайлы Калашникова, управляющего сельцом Михайловским и (впоследствии) Болдином, одного из «столбовых крепостных господ Пушкиных»[4]. Именно её по установившейся с давних пор традиции называют «крепостной любовью» поэта. В. В. Вересаев, структурируя свою книгу «Спутники Пушкина», данной характеристикой не ограничился и возвёл Ольгу в разряд пушкинских «родственников и домочадцев»[5]. П. Е. Щёголев не отстал от коллеги и присвоил ей титул «жены в 1825 году»[6]. А поэт Михаил Дудин был убеждён и не уставал убеждать других, что стихотворение «Я помню чудное мгновенье…» адресовано Калашниковой:
И вдруг спокойно озарение
Само приходит по себе,
Что чудо — «Чудное мгновение» —
Одной написано тебе[7].
В откровенном письме приятелю Александр Пушкин нарёк Ольгу Калашникову «Эдой» (XIII, 278). И действительно: история дворовой девки из псковского сельца напоминала драматическую судьбу героини поэмы Евгения Боратынского — юной неродовитой финляндки Эды, соблазнённой и впоследствии покинутой «гусаром красивым»:
Он поскакал. Уж за холмами
Не виден он твоим очам…
Согнув колена, к небесам
Она сперва воздела руки,
За ним простёрла их потом
И в прах поверглася лицом
С глухим стенаньем смертной муки[8].
Примечательно, что поэма «Эда» публиковалась фрагментами в журналах и альманахах 1825 года, доступных ссыльному Пушкину. А в следующем году, в феврале, «финляндская повесть» Боратынского была напечатана в Петербурге отдельной книжкой (вместе с «описательной поэмой» «Пиры»), Иными словами, реальный деревенский роман Александра Пушкина развивался в те же сроки, как бы параллельно с оглашаемым поэтическим действом, и, что особенно любопытно, имел с литературной новинкой пусть и не абсолютное, но разительное сходство[9].
Кстати, Пушкин высоко оценил творение товарища по цеху. «Что за прелесть эта Эда! Оригинальности рассказа наши критики не поймут, — писал он барону А. А. Дельвигу 20 февраля 1826 года. — Но какое разнообразие! Гусар, Эда и сам поэт, всякой говорит по своему. А описания лифляндской природы! а утро после первой ночи! а сцена с отцом! — чудо!» (XIII, 262).
Пушкин счёл «Эду» Боратынского «одним из самых оригинальных произведений элегической поэзии» (XI, 107), «произведением столь замечательным оригинальной своею простотою, прелестью рассказа, живостью красок — и очерком характеров, слегка, но мастерски означенных» (XI, 74). Так утверждал поэт в 1828 и 1830 годах, когда его буколическая подруга уже обрела иной статус. О «характерах», речах и мотивировке поступков действующих лиц поэмы он, заимевший собственный опыт сословно неравного романа с «роковым разлученьем», мог судить со знанием предмета.
Любовная связь Александра Пушкина с Ольгой Калашниковой многократно становилась предметом дотошного, подчас бесцеремонного, анализа. В итоге у кого-то возникла иллюзия, что «роман <…> документирован на редкость полно»[10]. На самом же деле источников до обидного мало, история отношений поэта и дочери управляющего изобилует туманными эпизодами. Ещё больше пробелов в биографии Ольги: её бытие «в отдалении» от барина обычно представляется излишне будничным; оно реконструировано немногими энтузиастами разве что фрагментарно. Нуждается в дополнительном изучении и вопрос о творческих рефлексиях поэта, так или иначе сопряжённых с Ольгой Калашниковой. Иногда их сводят к покаянному дискурсу. «Уж лучше, пожалуй, знать, как впоследствии терзался и казнил себя Пушкин, нежели думать, что вся эта история была ему нипочём», — заметил, например, В. Ф. Ходасевич[11]. Но такой упрощённый подход мало что объясняет.
В настоящем очерке жизни Ольги Калашниковой — если угодно, опыте микроисторического исследования — самонадеянный автор отважился затронуть разом все обозначенные проблемы. На страницах книги имеются и материалы для раздумий о пушкинской поэтике in genere[12]. Сверх того, вниманию читателей — «если Бог пошлёт мне читателей» (VIII, 127) — предлагается беглая хроника сосуществования двух семейств, помещичьего и крестьянского, на протяжении полувека.
В Приложении к биографическому очерку помещены несколько глав о «крепостной любви» поэта из полузабытой книги В. Ф. Ходасевича «Поэтическое хозяйство Пушкина» (1924). Мнится, что в этих главах есть ряд суждений, которые выдержали испытание и временем, и шквальной критикой пушкинистов.


