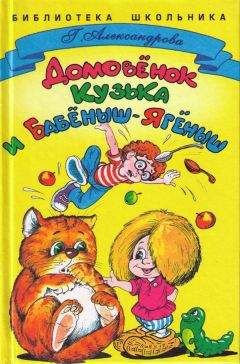Сергей Черепанов - Озеро синих гагар
Иная бы заплакала от досады и от боли в плече, но Погнездовница лишь гордо выпрямилась, вся гневом запылала, — небось, кровь-то в ней орлиная! Перед Чугуновым во всем мире, кроме нее, все вроде сразу померкло: и чудный камень-валун, и светлый месяц, и окутанный темнотой овраг. Но и сам-то Чугунов был не худшей породы. Не упал на колени, не запамятовал ради нее свое главное дело.
— Давай, — говорит, — веди меня, показывай, где он, варнак-то! Посчитаюсь с ним сразу и за мужицкий хлеб, и за Саверьяна, и за птиц, и за тебя!
— Что ты! Что ты! — всполошилась Погнездовница. — Одного я тебя туда не отпущу. Один на один ты с ним тоже не управишься.
Да за шинелку его ухватила, припала лицом-то на грудь.
— Милый, — говорит, — ты для меня человек!
Комиссар Чугунов приласкал девушку, как мог успокоил: я-де, не один, со мной еще двое мужиков, только свистну-крикну, как Артем и Герасим прибегут на подмогу, но и без них могу, коли понадобится, гору с места сдвинуть. Все же пообещал особо не рисковать.
Топнула Погнездовница босой ножкой по камню, руками взмахнула, вмиг стала белой птицей и взлетела над вершинами черноталов.
Идти за ней далеко не пришлось. На другом краю Старицы заимка притулилась. Построена была эта заимка, наверно, лет полсотни назад, но когда река откатилась, никто тут после не жил. Без толку было: ни рыбу ловить, ни зверя промышлять. Так и заглохло вокруг. Избешка без окон, двери с петель сорваны, углы подгнили и покосились, на дерновой крыше крапива расплодилась, а от погребушки и от сараев лишь кострище осталось. Над обрывом перед заимкой осинник поднялся, за ним холмы, лога и бор сосновый до самых каменных увалов и скал.
Наши деревенские дальше обочин Старицы не хаживали, — вдоволь хватало ягод и груздей в своих лесах, — потому о заимке даже в разговорах не вспоминали.
Пока Чугунов сквозь осинник пробирался, белая птица подлетела к избе, заглянула внутрь, ударила в проем крыльями.
Вся заимка всполошилась. Высунулся из норы черногрудый хорь и по-сорочьи защекотал. Волк выбежал на поляну, ощетинился, морду поднял и взвыл. Писк, свист разный послышался. А в избе огонь пыхнул, из трубы искры посыпались.
Белая птица еще раз в проем крыльями ударила, крикнула по-своему, и тут же появился на пороге он самый, Федот Лагун. Комиссар-то его с одного взгляда признал, хотя бородища у Федота отросла, что конский хвост, уши из-под малахая торчат, рот ощеренный, как у кота.
Пырснул Федот Лагун, со всего плеча размахнулся и кинул в белую птицу головешкой. Та увернулась в осинник, где Чугунов шинелку снял и на всякий случай изготовился. Однако, хоть и зуделись кулаки, Чугунов сдержался. Лучше было понаблюдать из укрытия, не начнет ли Федот каким-то способом разбой свой оказывать. И Погнездовнице шепнул: молчи, мол, дальше уж моя забота.
Тем временем Федот на четвереньки встал, уши навострил, прислушался, принюхался: не грозит ли ему чего? Шум-гам на заимке тоже оборвался. Тишина такая настала — лист с дерева упадет, и то знатко!
Хитер-то он хитер, но в тишине ничего не распознал, перестал сторожиться. Еще раз побывал в избе, потом двери отбросил, на угол навалился, нижние венцы бревен приподнял и в сторону сдвинул.
Что под избой, — подвал не подвал, голбец не голбец, — Чугунов в точности не разглядел, но вот засветилось там, мельничным бусом мелко-мелко запорошило. И стукоток оттуда какой-то непонятный: то ли молотком легонько по камню бьют, то ли жернова куют? Похоже, мельница скрыта. Вправду ведь мельница! Вода подземная на мельничное колесо по желобам падает, поворачивает его, дальше на приводе жернова, над ними бункер с зерном. А хомяков-то, хомяков на этой мельнице без числа: одни воду на колесо спускают, другие выгребают из ларей муку, третьи таскают ее в разные норы.
Оттуда же, из-под угла избы, Федот Лагун бочку пустую выкатил, повернул ее днищем вверх и шарахнул по нему ладонью. Гул на всю округу разнесло, будто где-то вдалеке гора раскололась.
И понесло нечисть отовсюду, стаю за стаей. Вначале мыши полевки, потом крысы, сурки и всякая прочая тварь. Такое множество, аж трава на елани и по перелеску, как от ветра, зашевелилась. А Федот руками замахал, ногами затопал, закричал им вслед: ни одного-де поля не пропускайте, обирайте хлебные полосы дочиста, тащите зерно на мельницу, пусть-ко мужики снова, как в старое время, помыкаются!
Мало ему этой выпущенной нечисти показалось, так туда же, в поля, он и хомяков с мельницы выгнал, а за то, что побежали они не прытко (ожирели с мельничного буса!) — выхватил из-за голенища ременный кнут и почал им по шкурам-то врезывать.
Обернулся комиссар Чугунов к белой птице, вроде немного растерялся.
— Что, — спрашивает, — делать теперича? Взять самого варнака немудрено, а как всю эту нечистую тварь изничтожить? Ведь несдобровать хлебам, весь урожай погинет…
А белая птица, Погнездовница, уж и сама, видно, поняла, что к чему, выдернула из своего хвоста перо и запустила его в небо. Перо-то будто молния понеслось над равнинами и горами. В тот же миг все леса на сто верст вокруг пробудились: совы захохотали-запричитали, ястреба-сарычи заканючили, заухали филины. Вот уж и крылья их шумят над заимкой, уже и лунный свет от них померк, будто туча откуда-то накатилась. А вся нечисть, Федотом науськанная, кинулась без ума врассыпную, кто куда, лишь бы подальше спрятаться, в землю закопаться.
Комиссар Чугунов тоже знак подал: свистнул, чтобы Герасим и Артем поскорее ему на подмогу бежали. Но ждать их было уже недосуг. Пока сбитый с толку Федот возле избы стоял и озирался, комиссар ринулся, схватился с ним врукопашную.
Все ж таки у него, у Чугунова-то, силы оказалось поболее, — и годами он был молодой, и боролся за дело, — так что начал гнуть варнака-разбойника, подламывать. Тут кстати с одного края Старицы Артем показался, с другого Герасим. Еще бы чуть-чуть нажать, придавить, и грохнулся бы Федот Лагун, но комиссар нечаянно поскользнулся. Увидел он только, как Федот оскалился, как взметнул над его лицом кулачище-кувалду, и пришлось бы мужикам заказывать для комиссара домовину, но тут крикнула протяжно птица Погнездовница, упала между ними и загородила собой Чугунова, приняла на себя удар…
Скрутили мужики Лагуна по рукам и ногам, бросили его на угорок и начали заимку крушить: бревна от избешки раскидали, мельничные жернова в воду опрокинули, ходы-выходы в подземелье камнем засыпали.
А комиссар Чугунов слова не вымолвил, не шелохнулся, не шевельнулся, когда ястребы-сарычи и совы, изничтожив на полях всех мышей, крыс, сурков, обратно вернулись, когда кружились над заимкой и свою белую птицу звали. Положил он ее, Погнездовницу-то, к себе на колени, встрепенулась она, опять девицей обернулась, но только и успела на прощание шепнуть: не забывай-де, меня, но и не горюй, потому как я любовь изведала и остаюсь счастливой!..
Много потом тосковал о ней комиссар Чугунов. Дела свои исполнял в аккурате, с деревенскими мужиками по-прежнему держался в родстве, но тосковал.
Осенью, после молотьбы, когда последний обоз с хлебом в город отправили, наступила пора и ему, Чугунову, уезжать. Но перед отъездом видели его наши мужики на месте старой заимки, возле холмика, под которым он в ту ночь Погнездовницу навеки укрыл. Ветер вершины ломит, вокруг желтый листопад бушует, летят в небе косяки журавлей, дятел на дереве долбится, а он, Чугунов-то, без шапки стоит у холмика, стоит и стоит…
И еще раз видели наши деревенские, как по торной полевой дороге гнал он верхом на коне, поспешал опять куда-то, может, с другим каким Ленинским словом к мужикам, а по дороге за конем пыль клубилась…
Голос большого колокола
Очень уж любо в позднюю пору тальянку и песни слушать. Не уснешь ведь, не задремлешь. Так и тянет на лавочку у ворот, а на душе становится ласково, пал бы на землю и обнял бы ее, матушку родную, за всю благодать жизни!
Ночью у нас тихо. Укроется деревня темнотой, как одеялом, зажмурится, заглохнет, а я сижу на лавочке, трубкой попыхиваю. Вот звезда с неба покатилась. Вот из гумен запах полыни нахлынул, из огорода, с огуречной гряды, росой напахнуло. Под застрехой голуби легонько шебаршат, спросонок гулят.
В этот час вдруг несмело, осторожненько, в ползвука, будто парень с девушкой в первый раз поцеловались, — эвон оттуда, из-за деревни, где в логу ручей течет, — тальянка заиграла. Потом все посмелее да погромче — и пошла сыпать переборы пригоршнями. Вскоре с другого конца деревни, на лугу, другая тальянка ответила переливчато, скороговоркой, вроде на спор позвала: давай-де, потягаемся, кто из нас ловчее, которая вокруг себя больше молодяжника на игрища соберет?
Конечно, парням и девушкам не все ли равно, где плясать, лишь бы музыка заставляла ноги ходить ходуном, скучать было бы недосуг. Но у меня суждения иные. Я свое отплясал, с седой-то бородой на игрища бежать уже неловко, так сидя на лавочке у ворот думаю: кто из двух тальянок выспорит, которая звончее и милее? Тут ведь дело непростое. У одной лады поставлены медные, эта далеко свой голос не выносит, а у второй, что ни лад, то чистое серебро, небось, в Дальней роще слыхать.