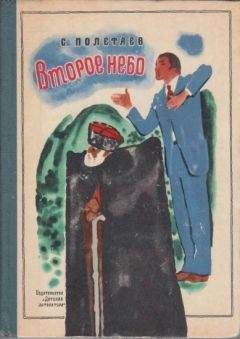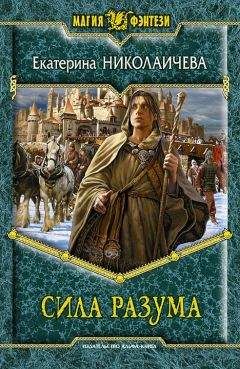Яан Кросс - Мартов хлеб
Но лицо Марта потное прежде всего оттого, что он только что быстро шел, возвращаясь из гавани, откуда на самом деле отправился в Ригу или Кёнигсберг[35] первый корабль Мартова хлеба. Корабль Мартова хлеба, как говорит город. Как Март сам помогает городу говорить. Ну да, корабль Мартова хлеба, конечно, это следует понимать буквально… в полном смысле слова, вне всякого сомнения, это так и есть, но только все же с не совсем полным грузом. Ибо фрахт старого увальня составляет двести шиффунтов ворвани и четверть шиффунта Мартова хлеба… Это правда, так, конечно, оно и есть, — думает Март, — но ведь и с колбасой из птичьих языков дело обстояло бы точно так же: для начинки берут одну лошадь и один птичий язычок… И еще со многими, многими другими вещами, размышляет Март, дело обстоит точно так же, — мы даем им название по их лучшей части, пусть она по сравнению с худшей хоть какая угодно маленькая. Так и с таллиннским кораблем Мартова хлеба… Только бы Господь помог ему благополучно дойти до места, и хоть бы они сумели хорошо продать не только ворвань других купцов, но и мои сласти. И не стану я мучиться и раздумывать, как его следует называть — мартово-хлебным или ворванским. Да, пусть лучше епископ Хенрикус ломает себе голову, христианский ли вообще-то его приход… А если всерьез отнестись к вопросу о большей или меньшей доле, так его приход попросту табун языческих грешников!
Едва Март успевает до конца додумать эту бесстыдную мысль про епископа, как перед аптекой, на площади, раздаются восклицания и крики:
— Посторонитесь! Дорогу его преосвященству!
Колокольчик на дверях тихонько вызванивает приветствие, и аптека вмиг уже полна разными важными господами. Такими важными, что мастер Иохан, который возится у своего окна, срывает с головы берет еще прежде, чем начинает кланяться… Да, другой раз в самом деле так бывает, как по-латыни говорится, lupus in fabula[36]. Это значит, что если о волке заговорить или про него подумать, то он сразу же тут как тут… А ведь про епископа[37] Хенрикуса Март как раз и думал, и — гляди-ка — этот высокий господин самолично стоит посреди аптеки во главе всех вошедших.
Белое драпированное одеяние поверх огромного брюха обжоры, по тройному подбородку бегает довольная усмешка. По обе руки от него — пять или шесть каноников[38], примерно такого же размера, а чуть позади — во множестве городские господа и госпожи. И среди последних, между прочим, Март тут же разглядел Матильду. Но ни папы, ни мамы Калле среди стоящих не видно.
— Хо-хо-хоо, — говорит епископ и поводит носом, — а пахнет у вас здесь так, будто сюда к вам притащили все вёсны Розового сада, и всё миро[39], и весь ладан[40] Кафедрального собора[41]… На самом деле! А теперь я желаю это ваше чудо сам попробовать! Ибо нынешние городские купцы так непочтительны по отношению к своему епископу (тут епископ бросает на ратманов и ратманш полушельмовской и в то же время полупридирчивый взгляд, как бы говорящий: вы же понимаете, я вас, правда, обвиняю, но все же слишком всерьёз этого принимать не следует, ибо мы же все — одного поля ягоды), да, так непочтительны нынешние городские купцы к своему епископу, что я только по слухам знаю, будто в магистрате на пирах уже несколько месяцев подают это чудо, будто у ратманов за домашним столом его тоже уже едали, а епископу приходится довольствоваться тем, что про него его уши слыхали. Мартинус, ты, как я слышал, мастер этого дела, подай-ка мне кусок побольше!
Март в таких случаях не скупится. Он тут же подает епископу здоровый ломоть размером с поросячий окорок.
— Извольте, господин епископ. Окажите нам эту честь!
И епископ оказывает. То есть, епископ ест. Так, что у него хрустит за ушами, рот чавкает, а его язык лакомки несколько раз — липс-липс — с наслаждением облизывает чмокающие губы.
— О-о-о! — говорит епископ, когда фунт Мартова хлеба уже исчез между его широкими зубами. — О-о-о… Это же действительно casus совершенно extraordinarius[42]… И ты, сын ночного сторожа селедочного дома, умеешь готовить такое лакомство? И вместе с сыновьями каких-то лодочников и извозчиков вы его делаете? Невероятно! И назвали его Мартовым хлебом? В твою честь? Нет, нет, нет, нет! Это я вам запрещаю! То есть, так называть. Кушанье, которое вкушает епископ, а также его советники — он обернулся к каноникам — пробуйте, пробуйте — у такого кушанья, особенно если его происхождение весьма сомнительно, по крайней мере название должно быть тонкое, латинское. Не Мартов хлеб. A martipanis. Мартипанис, который, если только у меня правильное представление о правилах латинского языка, во всем мире станут называть марципаном. И тем, Мартинус, утешься! При наличии доброй воли внуки твои в этом названии найдут имя их деда. Несомненно. Если только у них достанет доброй воли. А теперь, — он снова принимается жевать кусок марципана и с набитым ртом продолжает, — теперь я хочу достойно тебя наградить за великолепное открытие. Да-а-а. Проси у меня чего хочешь. Только помни: я не король, у которого в сказках в таких случаях просят пол-королевства или руку королевской дочери. Хо-хо-хо-хоо. Ибо пол-епископства без разрешения Папы подарить тебе я не могу, а дочери у меня нет. Так что проси у меня что-либо разумное, подобающее моему епископскому сану.
От любопытства вся аптека притихла. Только епископ и каноники чавкают марципаном, а Март думает более напряженно, чем когда-либо: просить или еще не просить то, что он хотел бы попросить? Он ищет глазами Матильду, чтобы взглядом спросить ее, но Матильда спряталась между господами, ее не видно, и Март невольно смотрит в окно. Март видит на площади ратмана Калле с супругой, выходящих из проулка со Старого рынка. Они идут так быстро, как только могут, но идти немножко в гору по неровной мостовой все же нелегко. Через каждые десять шагов они останавливаются, чтобы перевести дух. Собственно, перевести дух нужно только маме. Ибо почему-то (или просто от какого-то предчувствия) она явно чего-то боится. И Март решает: ладно, пусть ее страх не будет беспричинным. Пусть у нее будет для этого достаточное основание. Именно!
Он скользит мимо епископа и каноников, мимо ратманов, берет Матильду за руку и тащит ее к господину Хенрикусу.
— Достопочтенный епископ, ведь благословение — ваше ремесло. Ничего другого я не прошу: благословите нас с этой девой стать мужем и женой.
— О-о-о, — говорит епископ, — это же Матильдочка ратмана Калле? — Мгновение он размышляет и сует в рот третий ломоть марципана. — Ладно. А, собственно, почему бы и нет?! Раз я уже дал торжественное обещание, дам вам и свое благословение.
Потому что таллиннскому магистрату — вам, друзья мои, это пойдет только на пользу, если я немножко подстригу пёрышки вашей гордости. Пусть хоть для вида. Пусть хоть только тем, что сына ночного сторожа я сделаю зятем ратмана… Да-а. — Теперь епископу, занятому политической деятельностью, приходит в голову, что существует и невеста. — Да-а, то есть, если ты, девочка, согласна.
Дева Матильда как раз в это время, слушая епископа, думает: «Гляди-ка, и слепой петух другой раз случайно зерно находит». А теперь она потупила сверкающие глазки, личико ее зарделось, как будто оно сделано из розового марципана, и шепчет:
— Да-а-а…
После чего епископ Хенрикус благословляет их на супружество. Только три раза успевает ударить сердце, и чета Калле входит в аптеку.
Ратманы со своими супругами сразу же окружают обе пары и принимаются так их целовать и поздравлять, что просто страх берет. Кто из вежливости, кто от ехидства, а некоторые, кто подальновиднее, и для того, чтобы скрыть зависть. Так или иначе, какое-то время длятся пожелания счастья и чмоканье. И только потом родительской чете становится ясно, что здесь произошло. Тут Калле так сгребает Марта рукой вокруг шеи, что невозможно понять, то ли он дал Марту неслышную затрещину, то ли в шутку, по-братски, пихнул его, то ли шлёпнул на правах тестя.
— Ну, такие истории другой раз и похуже кончаются! Если же Матильда сама желает стать женой мартово-хлебного мастера, так пусть и будет.
— Женой марципанного мастера, — поправляет епископ.
Но госпожу Калле это нисколько не утешает. Госпожа Калле икает и падает в обморок. Однако именно там, где у двери в лабораторию стоит ясеневый диван с высокой спинкой. Так что падать нисколько не больно. Но долго лежать там ей не приходится, потому что к ратманше спешит со своим непременным мньмньмньмом красно-синеносый мастер Иохан (ведь у каждого в конце повествования должно быть свое место и свое занятие) и приводит ее в чувство при помощи столь отвратительно пахнущих, но сразу же действующих капель, что один понятливый купец, который эти капли тоже слегка нюхнул, говорит мастеру Иохану с усмешкой: