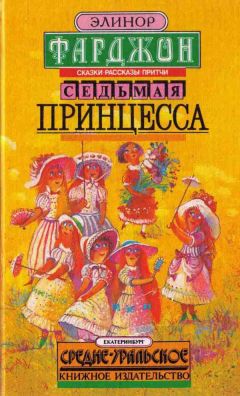Элинор Фарджон - Седьмая принцесса (сборник)
Племянника, хочешь не хочешь, надо было определить в школу. Поскольку так положено. И, продержав Вильчика дома целый месяц, словно тайное сокровище, Сёстры обратились к Начальнице школы по фамилии Ежевични. Решение это далось им не без труда: очень уж не хотелось отдавать Вильчика во власть чужой женщины. Но сами они ни читать, ни писать не умели. Их руки ловко управлялись с тряпками и щётками, но не ладили с ручками и линейками; их глаза умело высматривали паутину в углах, но не различали буквы в книжках. Они считали чернила кляксой на чистом лике цивилизации. И возможно, были недалеки от истины, кто знает? Глядя на книжную страницу, они стоически сдерживали негодование — не то бросились бы счищать с белоснежной бумаги эти отвратительные чёрные закорючки. Но — увы! — детям принято давать образование. И одним воскресным утром Тётя Воскресенье постучала к Начальнице Ежевични.
— Войдите, — сказала полусонная Начальница. Тётя Воскресенье бросила неодобрительный взгляд на стол, уставленный грязной посудой.
— Я… насчёт ребёнка, — произнесла она с запинкой.
— Неужели вас опять потревожил кто-то из моих шалунов? — посочувствовала Начальница. Ей не впервой было выслушивать жалобы Сестёр: то школьники грязью кидаются, то стёкла бьют, короче — ведут себя как нормальные дети.
— Нет-нет, нас никто не тревожил. Речь идёт о нашем ребёнке. Ему пора в школу.
— Господи-Боже-мой! — Начальница оторопела. — И чей же это сынёнок, то есть ребёнок? — Она была так потрясена сообщением Тёти Воскресенье, что враз позабыла всю грамматику. Но Тётя Воскресенье не обратила внимания на оговорку Начальницы, поскольку и сама пребывала в большом затруднении: надо как-то объяснить, что Вильчик их, их собственный. А то ещё отберут… И Тётя Воскресенье промолвила, не глядя Начальнице в глаза:
— Он наш, но не сын, а племянник.
— Господи-Боже-мой! — снова воскликнула мадам Ежевични. — Значит, это сын вашего пропавшего брата?!
И Тётя Воскресенье кивнула! За всю жизнь она ни разу не солгала. Сёстры ценили чистую правду не меньше, чем чистые лица и руки. Но все же, прикусив язычок и скрепя сердце, Тётя Воскресенье кивнула в ответ.
— Пускай милый малыш приходит завтра в школу! — сказала Начальница.
Дома Тётя Воскресенье подробно пересказала Сёстрам разговор, а в конце, опасливо взглянув на Тётю Понедельник, произнесла:
— И я кивнула. Это ложь?
Тётя Понедельник поджала губы.
— Это святая ложь! — наконец решила она. И у Тёти Воскресенье отлегло от сердца.
Наутро Вильчик самостоятельно отправился в школу. Он был очень независим и не любил, чтобы его водили за ручку. Звонок уже отзвенел, и класс был полон, когда открылась дверь и на пороге появился Вильчик. Дети удивились, да и сама Начальница тоже, хоть и знала о его приходе заранее.
Взяв Вильчика за руку, она провела его в класс и поставила на скамью.
— Дети, знакомьтесь, это наш новый ученик.
Дети хором завопили:
— Он слишком маленький!
Вильчик обиженно надулся.
Мадам Ежевични склонилась к нему и спросила:
— Сколько тебе лет?
— Пять, с вашего позволения, — ответил Вильчик.
— Два ему, точно — два! — заорали дети
— Я лучше знаю! — возмутился Вильчик.
— Успокойтесь, дети! — сказала Начальница.
— Посадите его на высокий стул и дайте соску! — хихикнула Табби Банч, хотя вовсе не была злой или невоспитанной.
— Соску ему, соску! — закричали дети, хотя на самом деле были хорошими и добрыми.
Вильчик молча слез со скамьи и вышел из класса. На том его образование и закончилось. Отныне в школу его было не залучить — даже силком. Он заявил, что не желает слушать, как дразнится Табби, и не желает ходить в школу, пока не станет самым высоким в Вильмингтоне. И коротал время дома, с Тётками, ожидая — когда же наступит миг его торжества. Но так и не дождался.
Вильчик попал в Вильмингтон пяти лет от роду и тридцати одного дюйма[4] от пола до макушки. Каждый новый год прибавлял к его возрасту по двенадцати месяцев, но ростом Вильчик так и не вышел — не подрос ни на дюйм.
Когда Вильчику стукнуло десять лет, его приметил вильмингтонский Трубочист.
— Позвольте вашего племянника к делу приставить — дымоходы чистить, — сказал он Сёстрам.
Они в один голос ответили:
— Пусть решает сам.
Кликнули Вильчика, и Трубочист изложил ему суть дела:
— Хочешь со мной работать? Лазить по дымоходам с чёрной щеткой и зелёной веткой, искать ласточкины гнёзда, видеть звёзды среди бела дня и получать за это целый фартинг?
— Хочу! — быстро ответил Вильчик.
— Вот удалец! — обрадовался Трубочист. — Приходи-ка завтра утром в самой плохонькой одежонке. Покуда я силён, я тебя многому научу, а уйду на покой — передам тебе дело, и благословлю.
И Трубочист распрощался с Тётушками и Племянником, сиявшими от счастья.
— Вильчик, только подумай! Целый фартинг в день! Ты наш кормилец-поилец! — воскликнула Тётя Суббота.
— Настоящий мужчина! — приговаривали Тётки хором.
Вильчик тоже был рад-радёхонек: шутка ли — стать настоящим мужчиной в десять лет!
Наутро он отправился чистить вильмингтонские дымоходы. С работой он справился прекрасно, получил свой фартинг и бросился домой — показать монету Тётушкам. Когда он влетел, они как раз расстилали на столе белоснежную дамасковую скатерть. Белели тончайшие фарфоровые чашки; белейшая булка ждала, чтоб её нарезали; в белой сахарнице белели белые куски сахара; белые куриные яйца лежали в белод кастрюльке с кипятком. Но Вильчик и сам кипел, и потому красоты этой он попросту не заметил.
— Тётя Вторник! Тётя Четверг! — кричал он. — Я лазил-лазил, всё вверх и вверх, как кролик из норки. Одни дымоходы широкие, словно комнаты, а другие — узенькие. Да ещё кривые, как старик Гаффер Фристон. Глядите, я два гнезда нашёл! А в самый полдень видел звёзды! Я совы не убоялся и от крысы не шарахнулся! Но лучше всего было, когда я высунулся из трубы, а внизу — Табби Банч в классики играет. Она вдруг как заверещит: «Ой, Вилли! Какой ты сегодня верзила!» Тётя Понедельник, вот тебе фартинг, потому что сегодня понедельник! Я в нём дырку просверлю, и ты его повесишь на шею!
— Спасибо, Вильчик, — еле слышно проговорила Тётя Понедельник. Она даже не нашла в себе сил принять фартинг из рук племянника. Все Семеро Сестёр онемели, они не знали, что делать. За Вильчиком тянулась цепочка чёрных, как от негра, следов. Его чёрная негритянская пятерня отпечаталась на белоснежной скатерти. И сам он был чёрен, будто побывал у негра в желудке. Весь он — от головы до пят — был покрыт толстым слоем сажи. И стоял на белом половичке в белой комнате, как чадящая керосиновая лампа. Двинет рукой — закоптятся стены; повернёт голову — почернеют стулья и занавески. Даже до потолка сажа долетала! Но Вильчик был так счастлив, и Тётки его так любили, что не решались его расстраивать и боялись показать, как расстроены сами.
Тётя Понедельник мягко сказала:
— Пойдём, Вильчик, пойдём искупаемся. И заодно искупаем твой первый фартинг.
Она увела Племянника, а Шестеро остальных принялись отмывать и отчищать сажу. Лишь к утру их чудесный беленький домик засиял по-прежнему. Опустив половик и занавески в клубы мыльной пены, Тётя Среда шепнула Тёте Пятнице:
— Ох, Сестра! Лучше б мы определили его учеником к Мельнику.
Но было слишком поздно. Вильчик работал у Трубочиста, а Семеро Сестёр отказались от вечерних прогулок. И от ночного сна отказались. Они отказались от всего на свете — их уделом стала теперь борьба с сажей, которую Вильчик приносил в дом. Но они не упрекали Племянника — ведь он был так счастлив!
День за днём Вильчик следовал за своим наставником, держа в руках чёрную лохматую щётку на длинном древке и вместительный чёрный мешок для сажи. Он лазил по широким дымоходам, обметал их стены веником из зелёных веток и попутно находил птичьи гнёзда с остатками скорлупы, беседовал с ласточками и совами. Каждый новый дымоход представлялся ему дорогой к неведомым приключениям, дорогой к звёздам. Самой же большой радостью Вильчика было высунуть голову из трубы и, глядя сверху на вильмингтонские улочки, искать глазами детей. Они казались ему лилипутами — смех, да и только! Даже не верилось, что люди могут быть такими крошечными! Вдоволь нахихикавшись, Вильчик окликал их:
— Эй, Табби! Эй, Бобби! Смотрите, где я!
Бобби и Табби, закинув головы, глядели на Вильчика и хохотали до упаду.
— Эй, Вильчик, ты просто верзила! Эй, братва, глядите, Вильчик из трубы торчит! Какой верзила!
И сердце Вильчика так и рвалось из груди от счастья и гордости.
Но, спустившись на землю, Вильчик снова оказывался коротышкой.