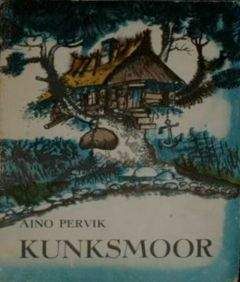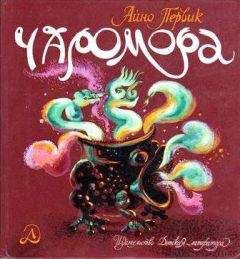Айно Первик - Баба-Мора и Капитан Трумм
Трумм никогда не видел, как пробуждается природа. И теперь это весеннее пробуждение полностью завладело его чувствами. Первые желтые цветочки мать-и-мачехи, которые он обнаружил среди камней, привели его в восхищение. Ему хотелось вскапывать влажную пахучую землю. У Бабы-Моры в шкафах и на полках среди связок сухих растений и разных корешков завалялись какие-то семена. Довольно посмеиваясь, капитан разбросал несколько горстей семян на грядке.
Когда Трумм увидел первую бабочку, он совершенно ошалел и целый день, как мальчишка, носился за нею. Вечером он достал ватман и карандаши и стал рисовать. Черный карандаш он сразу отбросил в сторону, взял акварельные краски и гуашь. И знай себе малевал. Он рисовал вербные барашки и березовые сережки, бабочек и мошек, травинки и, конечно же, голубое небо и море. Капитан был буквально пьян от красок, весенних запахов и голосов. И больше ничего не видел и не слышал.
А Баба-Мора с каждым днем становилась все мрачнее.
— Ну, — не выдержала она наконец, — похоже, я значу для тебя не больше, чем воздух.
— О-о! — мечтательно протянул капитан. — Ты чувствуешь, как пахнет воздух? От запахов влажной земли и лопающихся почек у меня с утра до вечера туман в голове.
— М-да, — буркнула Баба-Мора. — Насколько мне помнится, так тут было каждую весну.
Весна входила в свои права, восторги Трумма не убавлялись, а Баба-Мора хмурилась все больше и больше.
Когда подошла пора перелесок, калужниц и анемонов, капитан, как пригвожденный, дни напролет сидел в рощице и даже обедать не являлся. Баба-Мора совсем посмурнела.
— Интересно, что за думы такие ты высиживаешь в чащобе? — спросила она у капитана.
— Дорогая Эмелина, — виновато ответил капитан, — я думаю тебя нарисовать.
И Трумм стал рисовать Бабу-Мору. Вокруг нее он изобразил лебедей с распростертыми крыльями и голубые перелески. У ног ее он выписал белый прибрежный песок, усыпанный розовыми ракушками, и зеленые водоросли. Желтоватые щеки Бабы-Моры он осветил ярким светом вечерней зари, так что лицо ее зарделось как маков цвет.
Бабе-Море портрет очень понравился. Она то и дело подходила взглянуть на него, а в зеркало вовсе перестала смотреться.
Как-то утром она вдруг заявила Трумму.
— До тебя, кажется, до сих пор не дошло, что твоя жена — старая колдунья?
— Я знаю, что моя жена колдунья, — ответил Трумм. — Ну и что?
Баба-Мора горестно вздохнула:
— Ты даже не видишь, какая я на самом деле. Ох, я вроде околдовала тебя и волшебством удерживаю на острове.
Весь день Баба-Мора была не в духе.
На следующее утро капитан в восторге подбежал к Бабе-Море.
— Иди посмотри! — крикнул он.
Вид у капитана был не от мира сего и такой счастливый, что Баба-Мора не споря пошла за ним.
Трумм привел ее к своей грядке. Из каждого брошенного в землю семечка проклюнулся росток.
— Ты погляди, все семена взошли! — не мог нарадоваться Трумм.
— Ну и что, — созерцая грядку, сказала Баба-Мора. — Это ж лопухи. Ты слишком густо их посеял, у лопухов вырастают очень большие листья.
Трумм присел на корточки и бережно потрогал каждое растеньице.
— Это я вдохнул в них жизнь! — торжествующе воскликнул он. — Я вынул из темного шкафа семена и вынес их к свету и влаге. Благодаря мне они ожили! Ведь я же совершил чудо!
— Ну, — недовольно буркнула Баба-Мора, — ты и впрямь чудодей.
В этот день Баба-Мора хлопала дверьми и окнами и расшвыривала все, что попадалось ей под руки. А Трумм сидел в огороде и малевал своих лопушат. Вечером, сметая в кучу побитые вещи, Баба-Мора капризно заявила:
— Похоже, мне пора лететь по моим колдовским делам.
У Трумма голова была забита совсем другим, и он лишь пробормотал в ответ:
— Да-да, моя дорогая Эмелина.
— Может, мне не стоит и возвращаться? — нерешительно спросила Баба-Мора.
Но капитан ее не слышал.
— Ты видела, насколько они подросли за сегодняшний день? — восторженно спросил он.
Баба-Мора была оскорблена до глубины души. Значит, лопухи для Трумма важнее, чем она! Глотая слезы, Баба-Мора надула воздушный шар и поднялась в воздух. У нее не было никакой охоты заниматься колдовскими делами. Она не замечала направления и силы ветра. И ветер нес ее куда хотел. Баба-Мора не замечала вообще ничего, только время от времени она кричала в морской простор о своей обиде.
Шар долго летел над водой. Ветер затащил Бабу-Мору в тяжелые дождевые облака, и она вымокла до нитки.
— Пусть я простужусь, пусть у меня будет воспаление легких, — обиженно бубнила она. — Вот тогда Трумм увидит.
Неожиданно вокруг засверкали яркие молнии. Воздух задрожал от ударов грома.
— До чего же славная гроза! — завопила Баба-Мора, пытаясь перекричать гром. — И поделом Трумму, если меня убьет молнией!
От грозы у Бабы-Моры полегчало на душе. Когда буря утихла, настроение у нее было почти мирное. Она снова стала замечать, где летит. Внизу простирались пустыри, заваленные золой, и горы шлака. Бабе-Море показалось, что от них исходит необъяснимая печаль, созвучная ее душевным мукам.
— Бедная Морушка, — с тоской произнесла она. — На эти мертвые зольные пустоши ты и прилетела, чтобы умереть. Как же бедненький Трумм будет плакать по тебе!
Поодаль длинные трубы выплескивали в ночную темноту свое огненное дыхание.
— Вот и предназначенный тебе костер, — сказала Баба-Мора и направила шар в сторону труб.
Она зацепилась за самую высокую трубу. Из нее валил ядовитый дым, в котором плясали огненные искры. Время от времени в воздух взвивались алые языки пламени.
Баба-Мора в последний раз набрала в легкие воздуха и крикнула:
— Прощай, мой Трумм!
Затем сунула голову в густой смертоносный дым. Вскоре она почувствовала, что ей нечем дышать. Она вытащила голову из трубы и еще раз вдохнула свежего воздуха. Ее волосы обуглились и потрескивали. Веревки, которыми она была привязана к воздушному шару, перегорели, из шара со свистом вышел воздух, а пустая оболочка свалилась в бездну. Баба-Мора, зацепившись платьем за острые края трубы, повисла в воздухе.
— Бедная Морушка, — сказала она. — Если бы Трумм тебя увидел сейчас, он бросил бы рисовать свои лопухи.
Из трубы вырвался новый язык пламени и обдал ее нестерпимым жаром. Одежда занялась огнем. Дым поглотил Бабу-Мору, жизнь была готова покинуть ее в любую секунду. Баба-Мора переползла через край трубы, чтобы кинуться в напиравший снизу ядовитый дым.
— Вот и пришел твой конец, Морушка! — воскликнула она. — И как только Трумм сумеет все это пережить!
От горя из глаз Бабы-Моры покатились крупные слезы. Ее сердце смягчилось, обида стала отступать. Но она уже висела внутри трубы и могла в любое мгновение сорваться в огненную бездну. Сознание помутилось. Бабу-Мору охватили жуткая усталость и слабость.
— Так и впрямь можно изжариться, — прохрипела она. — И никто никогда не узнает, куда ты подевалась. Ох, мой бедненький Трумм, не могу же я уйти от тебя таким образом! И чего только меня понесло в эту трубу!
Баба-Мора хотела было поубавить пламя и отогнать дым, но ее безвольные губы отказывались повиноваться, и она смогла пробормотать только какие-то ничего не значащие пустые слова. Волшебная сила покинула Бабу-Мору. Огонь и дым ей не подчинялись, только плотнее окутывали ее.
— Невозможно, чтобы жизнь прекратилась! — прошептала изумленная Баба-Мора. — Такого не может быть.
Почти бессознательно она стала выбираться из трубы. Теперь это было не так-то просто, потому что ноги и руки ее ослабели, голова кружилась, а сердце готово было вот-вот остановиться. Легкие были полны ядовитых газов, все тело покрылось ожогами. Но Баба-Мора была очень живучей. Ее руки нащупали раскаленную лесенку, встроенную в трубу. И по этой лесенке она еле-еле, с огромнейшим трудом, выкарабкалась наверх. Лесенка шла и по наружной стороне трубы. Баба-Мора, теперь уже ничего не соображая, шажок за шажком, стала спускаться вниз. Порой она теряла сознание, но ее цепкие пальцы впивались в скобы, как птичьи лапы, и она не падала. Лишь у самой земли ее руки разжались, и она замертво свалилась на кучу золы.
На следующее утро Трумм и не заметил, что Бабы-Моры нет. Потому что с первыми лучами солнца он тайком прокрался с карандашами и бумагой к грядке с лопухами. И просидел там дотемна, вдохновенно и без всяких помех выписывая каждый стебелек, каждый листик, каждый черенок и каждую прожилку. Только когда стемнело, он собрал свои рисовальные принадлежности и пошел домой.
На море поднялся ветер. Дверь дома хлопала под его порывами так громко, что было слышно даже в лесу.
«Куда это Эмелина запропастилась, что и дверь не может закрыть?» — подумал капитан. От голода у него урчало в животе, и Трумм уже издали стал принюхиваться, не пахнет ли обедом. Однако дым над трубой не вился, свет в окнах не горел. С тревожным криком пролетела чайка. Трумм, недоумевая, вошел в дом. Там было пусто и холодно, как в погребе.