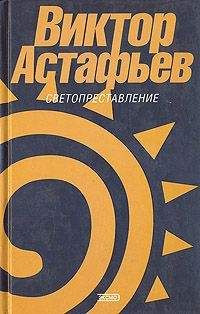Рудольф Эрих Распе - Приключения барона Мюнгхаузена
Одна из них была легавая – поразительно умное, чуткое, неутомимое животное; каждый, кто видел ее, завидовал мне. С нею можно было охотиться и днем и ночью. Когда темнело, я вешал ей на хвост зажженный фонарь, и ночная охота выходила у нас еще удачнее дневной.
Однажды – а случилось это вскоре после моей женитьбы – жена моя выразила желание сопровождать меня на охоту. Я поехал вперед выслеживать дичь, и вскоре моя собака остановилась перед громадной стаей куропаток в несколько сот голов. Я стал поджидать баронессу, ехавшую также верхом следом за мною в сопровождении поручика моего полка и грума, однако время проходило, а никто из них не показывался. Встревоженный таким долгим их отсутствием, я повернул назад и примерно на середине пути неожиданно услышал протяжные жалобные вопли; они раздавались как будто близко, хотя кругом не было видно ни одной живой души.
Сойдя с лошади, я припал ухом к земле и тут не только убедился, что стоны исходят из-под земли, но даже различил при этом голоса моей жены, поручика и грума. В то же время мне бросилось в глаза отверстие каменноугольных копей, черневшее невдалеке. Теперь не могло уже быть никакого сомнения в том, что баронесса и ее злополучные спутники провалились в глубокую шахту. Пустив лошадь в карьер, я поскакал в соседнюю деревню за рудокопами, которым в конце концов удалось, хотя с величайшими усилиями и после долгих приготовлений, вытащить несчастных из этого колодца, глубиной по крайней мере девяносто футов.
Сначала мы вытащили на свет Божий грума, потом его лошадь, потом молодого офицера, его лошадь, наконец баронессу, а за ней ее маленького клепера[3]. Удивительнее всего в этой истории было то, что при столь ужасном падении не пострадали ни люди, ни животные, не считая легких ушибов и царапин. Все отделались только жестоким испугом. Вы, конечно, понимаете, что об охоте не могло быть и речи. Если же вы, как я подозреваю, успели забыть за время моего рассказа о замечательной легавой собаке, то найдете простительным, что и я позабыл о ней в тот вечер, расстроенный жутким происшествием.
На другое утро мне пришлось отправиться по делам службы в двухнедельную поездку. По возвращении домой я тотчас хватился моей Дианки. Однако никто из домашних не вспомнил в мое отсутствие о ней: вся прислуга думала, что она убежала за мной. Теперь же, к моему величайшему горю, ее нигде не могли найти. Наконец мне пришло в голову: уж не сторожит ли она до сих пор найденную мною дичь?
Страх и надежда заставили меня в ту же минуту поспешить к знакомой поляне. Действительно, к моей невыразимой радости, верная собака делала стойку на том самом месте, где я оставил ее две недели назад.
– Пиль! – крикнул я.
Она рванулась вперед, и один меткий выстрел уложил на месте двадцать пять куропаток.
Однако несчастное животное едва смогло подползти ко мне, до такой степени обессилело оно от голода и усталости. Мне пришлось взять легавую к себе на лошадь, чтобы доставить ее домой, и вы, конечно, понимаете, что я покорился этому неудобству с величайшей готовностью. При заботливом уходе собака совершенно поправилась за несколько дней, а в скором времени помогла мне разрешить загадку, с которой я, по всей вероятности, никогда бы не справился без ее помощи.
Целых два дня я охотился за одним и тем же зайцем; Дианка беспрестанно выгоняла его, но под выстрел он никак не попадался. В колдовство я никогда не верил: для этого я слишком хорошо знал свет и видел слишком много необыкновенных вещей, но тут у меня уже ум заходил за разум. Наконец заяц подвернулся-таки мне, и я пустил ему вдогонку свой заряд. Косой покатился по траве, и как бы вы думали, что я увидел? Четыре лапы были у него под брюхом, а четыре – на спине. Когда две нижние пары утомлялись, он перевертывался, подражая искусному пловцу, умеющему плавать и на животе, и на спине, и бежал опять с удвоенною прытью на двух других парах лап, успевших тем временем отдохнуть.
Никогда после того не видывал я подобного зайца, да и тогда ни за что не удалось бы мне его увидеть, не будь у меня такой чудесной собаки. Дианка же до того превосходила всех представителей собачьего рода, что я без колебаний назвал бы ее единственной и неповторимой, если бы этой чести не оспаривала у нее моя же собственная левретка. Та была замечательна не столько своей красотой, сколько необычайной резвостью. Если бы вы, милостивые государи, могли ее видеть, то залюбовались бы ею и не нашли бы ничего странного в том, что я так любил ее и так часто брал с собою на охоту. Служа мне, эта собака бегала так скоро, так часто и так долго, что стерла себе ноги до самого живота, и в последнее время жизни я мог еще использовать ее как таксу, в качестве каковой она прослужила мне не один год.
Но еще в бытность свою левреткой она погналась однажды за молодым зайцем, который показался мне подозрительно толстым. На мою несчастную собаку было жалко смотреть: она была щенная, а между тем непременно хотела бежать так же резво, как и порожняя. Я, поспевая за нею верхом, порядочно приотстал. Вдруг до меня донесся лай точно целой своры собак, но слабый и нежный. Я не знал, что и подумать. Подъезжаю ближе – передо мной диво дивное.
Зайчиха на бегу принесла зайчат, а моя левретка ощенилась, причем число детенышей у обеих оказалось одинаковым. Зайчата инстинктивно пустились наутек, а щенки, также инстинктивно, вдогонку за ними, и мало того, что погнались, но и загнали новорожденную дичь. Таким образом, я окончил мою охоту, загнав шестерых зайцев шестью левретками, тогда как выехал в отъезжее поле всего с одной собакой.
Об этой удивительной левретке я вспоминаю с таким же удовольствием, как и об одной превосходной литовской лошади, которой не было цены. Досталась она мне при довольно любопытных обстоятельствах, когда, замечу, я имел случай отличиться как искусный наездник. Происходило это в Литве, в роскошном поместье графа Прщобовского, где я тогда гостил. Дамы сидели за чайным столом в парадной гостиной, где удерживали и меня, тогда как мужская компания спустилась во двор – смотреть молодого чистокровного скакуна, только что приведенного с конского завода. Вдруг под нашими окнами раздались крики испуга.
Я поспешно выбежал на крыльцо и увидел, что с молодой лошадью никому не сладить. Она рвалась, словно обезумев, становилась на дыбы и не подпускала к себе ни единого человека. Никто не отваживался не только сесть на нее, но даже к ней подступиться. Лучшие наездники стояли поодаль в тягостном смущении; страх и беспокойство читались на лицах у всех. Тут я одним прыжком очутился на спине артачившегося животного, которое опешило от такой неожиданности и не успело опомниться, как я уже справился с ним, пустив в ход все утонченные приемы умелой верховой езды.
Желая нагляднее убедить встревоженных дам в одержанной мною победе и рассеять их напрасный страх, я решился вскочить, как был, верхом, в распахнутое настежь окно гостиной. Здесь лошадь послушно ходила подо мною по этой громадной комнате и шагом, и рысью, потом скакала галопом, а в заключение, повинуясь моей руке, прыгнула на чайный стол, где послушно исполнила в миниатюре все приемы высшей школы к величайшему восхищению очарованных дам. Ее движения были так ловки, что от них не пострадала ни одна вещица из драгоценного чайного сервиза.
Мое искусство до такой степени расположило ко мне все дамское общество и самого хозяина дома, что престарелый граф со свойственной ему любезностью стал просить, чтобы я принял в подарок молодого коня. В то время русская армия под предводительством графа Миниха как раз готовилась выступить в поход против турок, и мне желали со всех сторон, чтобы, достигнув театра войны, я летал на моем лихом скакуне навстречу славным и громким победам.
Приключение четвертое
Чудесный конь, пожалуй, был для меня самым лучшим подарком, тем более что он предвещал мне благополучное участие в предстоящем походе, в котором я собирался впервые показать себя на боевом поприще и, конечно, мечтал отличиться. Благородное животное, такое послушное, но вместе с тем ретивое и горячее, одновременно ягненок и Буцефал, должно было постоянно напоминать мне о долге честного солдата и о поразительных бранных подвигах юного македонского героя.
Мы шли воевать, имея, по-видимому, главной целью восстановление славы русского оружия, несколько померкшей из-за неудач царя Петра на Пруте. И этого нам удалось достичь вполне, ценою хоть и крайне тягостного, но героического похода с множеством кровопролитных сражений под предводительством доблестного полководца, имя которого я назвал выше.
Скромность не позволяет людям подчиненным приписывать себе ратные подвиги и победы. Военная слава по обыкновению достается полководцам, невзирая на незначительность их личных достоинств, или, уж совершенно незаслуженно, – королям и королевам, которые нюхают порох только на маневрах, знакомы с походной жизнью лишь по лагерным сборам в мирное время, а боевой порядок войска видят на смотрах и парадах.


![Ноэль Шатле - Дама в синем. Бабушка-маков цвет. Девочка и подсолнухи [Авторский сборник]](/uploads/posts/books/122361/122361.jpg)