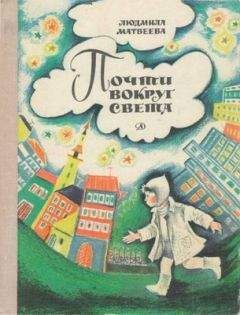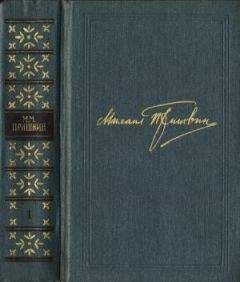Максим Горький - О маленькой фее и молодом чабане.
Вот как кончилась песнь чабана! Майя не ожидала такого конца, и ей стало грустно. Это было так красиво и кончилось так страшно! И зачем это «больше ничего»? Было так много красивого!.. Она смотрела на певца — теперь он был близко от неё — и видела, что и ему грустно. Он низко наклонил голову и тихо покачивал ею, глядя в землю. Ей захотелось поговорить с ним и, не думая о том, что из этого выйдет, она крикнула:
- Здравствуй! А скажи мне, почему у твоих весёлых песен такие грустные концы?
Чабан встал с земли, подошёл к самой опушке леса и, найдя её в ветвях своими карими глазами, улыбнулся, кивнул ей головой и отвечал:
— Почему? Да потому, что все песни имеют концы! А до сей поры, я слышал, ничто не кончено так, как начато. Это ты распеваешь в лесу? Вот ты какая! Я так и думал, что ты маленькая, гибкая и тонкая; у тебя и голос такой же, как сама ты.
Они замолчали и стали рассматривать друг друга. Он опёрся о палку локтем одной руки и, положив на её ладонь голову, смотрел вверх на ветви, из которых, улыбаясь, смотрело на него её маленькое белое личико с ясными карими глазами. И хорошо же оно было в рамке майской зелени!
- Ты славно поёшь! — сказала Майя, вдоволь насмотревшись в его чёрные, как омут, глаза и на смуглые, золотым пухом покрытые щёки.
- Пою, как умею, не лучше и не хуже этого, девушка! Сойди вниз, я посмотрю на тебя поближе. Ты ведь красавица, знаешь ли?
Ну, это-то она знала как нельзя более твёрдо. Когда по ночам засыпали ручьи, что текли по лесу, она частенько-таки любовалась в них своей рожицей и всем остальным. Все красавицы знают, что они такое, и почти всегда раньше времени знают это; можно думать, что коли бы этого не было, так и ещё кое-чего не было бы!
Майя хотела сойти, но вспомнила о том, что говорили ей крот и мать.
- А ты злой? - спросила она.
- Я-то? Не знаю… Я - чабан…
- Это я знаю! - торопливо сказала Майя. - Значит, ты добрый?
- Не знаю! - весело тряхнул кудрями чабан.
- Ну, так я не приду к тебе, потому что ты, наверно, злой! Есть только злые и добрые, а больше никаких нет, и ты меня обманываешь.
- Э, да ты глупенькая какая! - крикнул чабан. - Как хочешь, не придёшь - не приходи, а придёшь - я тебя поцелую!
- Не хочу я, чтоб ты меня поцеловал!
- Ну, это ты врёшь! Каждая девушка хочет, чтоб её целовали; разве я не знаю, ты думаешь?
- А я не хочу!
- Теперь - может быть; а через час или завтра и ты тоже захочешь. Всю жизнь по деревьям лазить не станешь ведь? Ну, вот то-то же!
Майя задумалась. «Может быть, лучше - поцеловать его сейчас, если это так неизбежно? Это, должно быть, очень хорошо поцеловать его вон в эту ямочку на щеке, что сделалась от улыбки, и в ту - на другой щеке.»
- Ну хорошо, я сойду! - засмеялась она и спрыгнула с веток прямо ему на руки.
- Какая ты лёгонькая! - глядя ей в очи, сказал он и поцеловал её в губы.
Ох, как это хорошо!.. Сладкий, как сок ландыша, и горячий, как летний солнечный луч, поцелуй чудной новой кровью потёк по жилам к сердцу, и оно затрепетало до боли сильно и сладко.
Она и сама поцеловала его, а он ей ответил, и ещё, и ещё, и бесконечно много целовались они.
Уже наступал вечер. Заходило солнце; лес темнел, и из дали по степи поползли тени, посланники ночи. Тогда Майя вспомнила, что нужно идти домой. Ей не хотелось этого - с чабаном было так хорошо!..
- Ты уж уходишь? - спросил её чабан. - Скоро! Но ты приходи завтра; я тебе что-то скажу, как придёшь.
— Я приду; мне с тобой так хорошо; но ты скажи то, что хочешь, сейчас, чтоб мне не думать об этом ночью, — сказала Майя.
— А ты разве не станешь думать, когда узнаешь, что это?
- Что же думать о том, что знаешь?
— Нет уж, иди. До завтра!
- До завтра!
Они поцеловались, и Майя пошла в свой лес, а чабан пел ей вслед одну из своих песен, только на этот раз тихую и нежную, как летний вечер, а не одну из старых — сильных и смелых, как ветер степной.
Майя пришла домой и рассказала всё, что случилось с ней в этот день. Эге, за всю свою жизнь до этой поры она не видала своей матери и сестёр такими испуганными и огорчёнными, как они были испуганы и огорчены, когда выслушали её. Мать то сердилась, то плакала, и всё говорила: «Что ты сделала, глупая! Что?!.» Сёстры молчали, и лес молчал, молчал задумчиво и неодобрительно. Майя чувствовала это, и ей было страшно чего-то.
- Дочка моя! — плакала мать. — Ты погубила себя!
Сёстры убито молчали и тоже плакали.
- Почему же, мама? Ведь в том, что мы целовались, нет ничего страшного, это только приятно. И потом, он говорит, что целоваться всё равно нужно; не нынче — завтра, это неизбежно!
— Дочка моя! Ведь он человек!
Но Майя не понимала, как глубока та пропасть, которую скрывает это слово, и говорила своё, что целоваться приятно, что чабан так хорош и что то, что вышло, неизбежно должно было выйти. И та и другая были правы и, чем больше спорили, тем правее считали себя, и кончился спор, как всегда, — они почувствовали себя обиженными и рассердились друг на друга.
— Ты не уйдёшь больше из дома дальше вот этого дуба! — сказала мать.
Этот дуб был в трёх шагах от маленького теремка Майи; это её ещё сильнее обидело. Она пошла к нему и села под густой тёмно-зелёный навес его ветвей. И осталась одна, потому что мать и сёстры ушли во дворец, взволнованно шепча о чём-то между собой. Всё это утомило её, и она уснула крепко, - в сущности, ведь ее совесть была чиста, как только что павшая с неба росинка, - уснула и видела степь, всю залитую горячим солнцем, и чабана; он пел песни, улыбался и целовал её; у него ярко искрились глаза и зубы блестели, как жемчуг, из-под пушистых и чёрных усов; ей было так славно! И когда она проснулась, ей - эх ты, как! - захотелось побежать туда, в степь; но она вспомнила, что это запретили маленькой девочке Майе, и ей стало обидно и грустно. Может быть, было бы лучше не говорить о чабане дома!.. Но она не умела не говорить о том, что в ней или с ней было… Вот идёт мать. Её старые, седые волосы чешет ветер, и мотыльки, летая венцом вкруг её головы, следят, как бы не попала пылинка на доброе старое лицо, которое теперь так убито и строго.
- Я пойду в степь, мама! - не то попросила, не то решила Майя.
- Ты не пойдёшь, девочка! Ты погибнешь, если пойдёшь! - подойдя к ней, заговорила царица-мать, и долго говорила она о том, что лучше не знать того, что приносит минуты радости и годы страданий, и о том, что только тогда душа свободна, когда она ничего не любит; о том, что человек слишком любит себя, чтоб надолго полюбить другого, и ещё о многом, что было и мудро, и, может быть, верно, но что совсем не было так приятно, как поцелуи чабана, и что не могло даже быть похоже на них. Майя слушала и очень внимательно, и долго, вплоть до той поры, пока со степи не принеслось и не прокатилось по лесу звонкое «Эгой!» - и вслед за ним не поплыли славные и стройные звуки песни чабана:
Терять минуты не годится
Тому, кто хочет много жить,
Кто хочет жизнью насладиться!
Тому, кто хочет счастлив быть,
Терять минуты не годится.
О, иди! Я тебя страстно жду!
Поскорей!.. Для тебя я в груди
Много песен весёлых найду…
О, иди! Поскорее иди!..
Майя слушала эту песню, и её сердце повторяло её. Голос матери звучал, как жужжанье пчелы, звуки песни - как клёкот орла.
— Нет, я пойду! — сказала Майя, и лес зашумел в ответ на громкий крик горя царицы-матери:
— Дочка, не ходи!!.
- Ведь это жестоко, мама! Я хочу — ты не хочешь; почему же нужно, чтоб было так, как хочешь ты? Пойми, что хочу я! Я хочу!..
- Дочка моя!.. Я знаю, что будет из этого! Не ходи!..
- А я не знаю и пойду!
- Так тогда ты больше не будешь моей дочерью, — вскричала царица, и лес не раз повторил её крик.
Бедные матери почему-то всегда забывают то время, когда они сами были только дочерьми, и отсюда выходит много лишнего крика; но это ничуть не мешает тому, чтоб всё шло своим чередом.
Майя испугалась и, когда увидала, что мать уходит от неё, испугалась ещё больше. А со степи неслось:
О, иди!.. Счастьем жизнь так бедна!..
Торопись же! Она так кратка!
Нужно пить чашу жизни до дна
Поскорей — не остыла пока!..
Майя посмотрела кругом… Корявые сучья дубов и белые гибкие ветви берёз переплелись между собой, тесно переплелись они, и никогда сквозь густую сеть их не проникало в лес так мало солнца, как сегодня! Воздух был влажен и душен; пахло не столько цветами и свежей майской зеленью, сколько перегнившим листом и ещё чем-то, таким же тяжёлым… А там, в степи, просторно и ярко! И оттуда неслась песнь:
О, иди!.. Хочешь жить, будь смелей!
Поскорей!.. Страх и жалость отбрось!
Только сердце свое ты жалей,
Только с ним не пытайся жить врозь!
Майе стало казаться, что лес ещё гуще переплёл свои ветви и хочет помешать ей уйти и вершины деревьев, кланяясь ей, шепчут: «Не уходи отсюда!.. Там ждёт тебя горе и ещё что-то!» Она чувствовала, что вот они повалятся ей на дорогу… но всё-таки хотела и решила пойти. У неё прямо из сердца полилась песня вызова и желания: