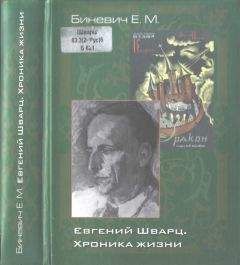Евгений Шварц - Обыкновенное чудо. Дракон (сборник)
Как много на свете чужих людей. Тебя это не тревожит на улице и в дачном поезде, но тут, в зале, где мы будем перед ними как бы разоблачаться – вот какие мы в работе, судите нас! – тут становится жутко и стыдно. Однако отступление невозможно. Козинцев выходит, становится перед зрителями, говорит несколько вступительных слов, и я угадываю, что и он в смятении. Но вот свет гаснет. На широком экране ставшие столь знакомыми за последние дни стены, покрытые черепицей крыши, острая скалистая вершина горы вдали – Ламанча, построенная в Коктебеле. Начинается действие, и незнакомые люди сливаются в близкое и понятное целое – в зрителей. Они смеются, заражая друг друга, кашляют, когда внимание рассеивается, кашляют все. Точнее, кашлянет один – и в разных углах зала, словно им напомнили, словно в ответ, кашлянут еще с десяток зрителей. Иногда притихнут и ты думаешь: «Поняли, о, милые!» Иногда засмеются вовсе некстати. Но самое главное чудо свершилось – исчезли чужие люди, в темноте сидели объединенные нашей работой зрители. Конечно, картина будет торжеством Толубеева. Пойдут восхвалять Черкасова по привычной дорожке. Совершенно справедливо оценят работу Козинцева. Мою работу вряд ли заметят. (Все это в случае успеха.) Но я чувствую себя ответственным наравне со всеми и испытываю удовольствие от того внимания, с которым смотрят на этом опасном просмотре, без музыки, с плохим звуком, приблизительно смонтированную картину. Черкасов, уже давший в заграничные газеты различные сообщения о своей работе, ведущий дневник, с тем, чтобы потом выпустить книгу «Как я создал роль Дон Кихота», после просмотра находится в необычном состоянии. Обычная его самоуверенность как бы тускнеет.
20 декабря
Вчера я был на выставке Пикассо и позавидовал свободе. Внутренней. Он делает то, что хочет. Та чистота, о которой мечтал Хармс. Пикассо не зависит даже от собственной школы, от собственных открытий, если они ему сегодня не нужны. Убедился, что содержание не ушло. Ушел сюжет. А содержание, которое не определить словами, осталось. Выставка вызвала необыкновенный шум в городе. У картин едва не дерутся. Доска, где вывешиваются отзывы, производит впечатление поля боя. «Ах, как хочется после этой выставки в Русский музей», – пишет один. «Ступай и усни там», – отвечает другой. И так далее и тому подобное.
Из Телефонной книжки
Следующая фамилия – Клыкова Лидия Васильевна. Это сестра Катерины Васильевны Заболоцкой. Лидию Васильевну я почти не знаю, но рад поговорить о Катерине Васильевне. Это, прямо говоря, одна из лучших женщин, которых встречал я в жизни. С этого и надо начать. Познакомился я с ней в конце двадцатых годов, когда Заболоцкий угрюмо и вместе с тем как бы и торжественно, а во всяком случае солидно сообщил нам, что женился. Жили они на Петроградской, улицу забыл, – кажется, на Большой Зелениной. Комнату снимали у хозяйки квартиры – тогда этот институт еще не вывелся. И мебель была хозяйкина. И особенно понравился мне висячий шкафчик красного дерева, со стеклянной дверцей. Второй, похожий, висел в коридоре. Немножко другого рисунка. Принимал нас Заболоцкий солидно, а вместе и весело, и Катерина Васильевна улыбалась нам, но в разговоры не вмешивалась. Напомнила она мне бестужевскую курсистку. Темное платье. Худенькая. Глаза темные. И очень простая. И очень скромная. Впечатление произвела настолько благоприятное, что на всем длинном пути домой ни Хармс, ни Олейников ни слова о ней не сказали. Так мы и привыкли к тому, что Заболоцкий женат. Однажды, уже в тридцатых годах, сидели мы в так называемой «культурной пивной» на углу канала Грибоедова [2], против Дома книги.
И Николай Алексеевич спросил торжественно и солидно, как мы считаем, – зачем человек обзаводится детьми? Не помню, что я ответил ему. Николай Макарович промолчал загадочно. Выслушав мой ответ, Николай Алексеевич покачал головой многозначительно и ответил: «Не в том суть. А в том, что не нами это заведено, не нами и кончится». А когда вышли мы из пивной и Заболоцкий сел в трамвай и поехал к себе на Петроградскую, Николай Макарович спросил меня: как я думаю, – почему задал Николай Алексеевич вопрос о детях? Я не мог догадаться. И Николай Макарович объяснил мне: у них будет ребенок. Вот почему завел он этот разговор. И, как всегда, оказался Николай Макарович прав. Через положенное время родился у Заболоцких сын. Николай Алексеевич заявил решительно, что назовет он его Фома. Но потом смягчился и дал ребенку имя Никита. Хармс терпеть не мог детей и гордился этим. Да это и шло ему. Определяло какую-то сторону его существа. Он, конечно, был последний в роде. Дальше потомство пошло бы совсем уж страшное. Вот отчего даже чужие дети пугали его. И как-то Николай Макарович, неистощимо внимательный наблюдатель, сообщил мне, посмеиваясь, что вчера Хармс и Заболоцкий чуть не поссорились. Хармс, будучи в гостях у Заболоцкого, сказал о Никите нечто оскорбительное, после чего Николай Алексеевич нахохлился и молчал весь вечер. Зато женщин Заболоцкий, Олейников и Хармс ругали дружно. Хармс, впрочем, более за компанию. Кроме детей, искренне ненавидел он только лошадей. Этих уж не могу объяснить почему. Яростно бранил их за глупость. Утверждал, что если бы они были маленькие, как собаки, то глупость их просто бросалась бы в глаза. Но когда друзья бранили женщин, он поддерживал их своим уверенным басом. «Культурная пивная» гудит от разговоров, и все на темы общие. «Народ – философ!» – говорил по этому поводу Олейников. И наш стол говорит о женщинах вообще. Кудрявая голова, бледное лицо и спокойные, даже сонные, светлые глаза.
Это Олейников, всегда внимательный – точнее, всегда на высокой степени внимания. Рядом – Заболоцкий, светловолосый, с девичьим цветом лица – кровь с молоком. Но этого не замечаешь. Очки и строгое, точнее – подчеркнуто степенное, упрямое выражение, – вот что бросается в глаза. Хоть и вышел он из самых недр России, из Вятской губернии, из семьи уездного землемера, и нет в его жилах ни капли другой крови, кроме русской, крестьянской, – иной раз своими повадками, методичностью, важностью напоминает он немца. За что друзья зовут его иной раз, за глаза, Карлуша Миллер. Рядом возвышается самый крупный из всех ростом Даниил Иванович Хармс. Маршак, очень его в те дни любивший, утверждал, что похож он на щенка большой породы и на молодого Тургенева. И то и другое было чем-то похоже. Настоящая фамилия Хармса была Ювачев. Отец его, морской офицер, был за связь с народовольцами заключен в Шлиссельбургскую крепость. Там он сошел с ума, о чем многие шлиссельбуржцы пишут в своих воспоминаниях. Им овладело религиозное помешательство. Крепость заменили ссылкой куда-то, чуть ли не на Камчатку, где он выздоровел и был освобожден. Помилован. Женился он в Петербурге. Мать Хармс очень любил. В двадцатых годах она умерла, и Введенский с ужасом рассказывал, как спокойно принял Даниил Иванович ее смерть. А отец заспорил со священником, который отпевал умирающую или приходил ее соборовать. Заспорил на религиозно-философские темы. Священник попался сердитый, и оба подняли крик, стучали палками, трясли бородами. Об этом рассказывал уже как-то сам Даниил Иванович. Так или иначе, но вырос Даниил Иванович в семье дворянской, с традициями. Вставал, разговаривая с дамами, бросался поднимать уроненный платок, с нашей точки зрения, излишне стуча каблуками. Он кончил Петершуле и отлично владел немецким языком. Знал музыку.
12 сентября
И сейчас, за столом в «культурной пивной», он держался прямее всех, руки на столе держал правильно, отлично управлялся с ножом и вилкой, только ел очень уж торопливо и жадно, словно голодающий. В свободное от еды и питья время он вертел в руках крошечную записную книжку, в которую записывал что-то. Или рисовал таинственные фигуры. От времени до времени задерживал внезапно дыхание, сохраняя строгое выражение. Я предполагал, что произносит он краткое заклинание или молитву. Со стороны это напоминало икание. Лицо у него было значительное. Лоб высокий. Иногда, по причинам тоже таинственным, перевязывал он лоб узенькой черной бархоткой. Так и ходил, подчиняясь внутренним законам. Подчиняясь другим внутренним законам, тем же, что заставляли его держаться прямо за столом и, стуча каблуками, поднимать уроненный дамой платок, он всегда носил жилет, манишку, крахмальный высокий отложной воротничок и черный маленький галстучек бабочкой, что при небрежности остальных частей одежды могло бы усилить впечатление странности, но оно не возникало вообще благодаря несокрушимо уверенной манере держаться. Когда он шагал по улице с черной бархоткой на лбу, в жилете и крахмальном воротничке, в брюках, до колен запрятанных в чулки, размахивая толстой палкой, то на него мало кто оглядывался. Впрочем, в те годы одевались еще с бору да с сосенки. Оглядывались бы с удивлением на человека в шляпе и новом, отглаженном костюме. Был Даниил Иванович храбр. В паспорте к фамилии Ювачев приписал он своим корявым почерком псевдоним Хармс, и когда различные учреждения, в том числе и отделение милиции, приходили от этого в ужас, он сохранял ледяное спокойствие. Хочу добавить еще одну важную вещь. Я, рассказывая о Каверине, недостаточно подчеркнул разное отношение к форме его и гения Хармса; в частности, Каверин уважал форму, а Хармс, чувствуя ее неизмеримо точнее, владея ею, видел, когда она жива.