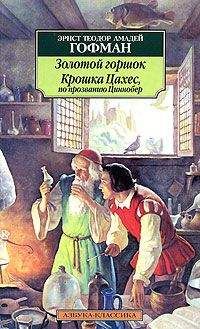Эрнст Гофман - Повелитель блох
Не подошел ли я слишком близко к маховому колесу, движимому мрачными, неведомыми силами, и оно захватило и закрутило меня? Можно ли сохранить рассудок, переживая все это? А между тем я чувствую себя как ни в чем не бывало; мне даже больше не кажется удивительным, что король блох прибегнул под мое покровительство и за это поверил мне тайну, которая дает мне проникнуть в самые сокровенные мысли людей и тем возвышает меня над всяким житейским обманом. Но куда приведет, куда сможет привести все это? Что, если под причудливой личиной блохи таится злой демон, замысливший меня завлечь и погубить, задавшийся гнусной целью похитить у меня все счастье любви, что сулит мне обладание Дертье? Не лучше ли было бы сейчас же избавиться от этого маленького чудовища?»
― Последняя ваша мысль, ― перебил мастер-блоха рассуждения Перегринуса, ― последняя ваша мысль была очень неделикатна, господин Перегринус Тис! Неужели вы полагаете, что тайна, которую я вам поверил, так уж маловажна? Разве не кажется вам этот мой подарок непреложным доказательством моей искренней дружбы? Стыдитесь своей недоверчивости! Вы дивитесь уму и силе духа крохотного, обычно презираемого насекомого, и это доказывает ― не во гнев вам будь сказано ― по меньшей мере недостаточность вашего научного образования. Я бы посоветовал вам почитать, что говорится о мыслящей и управляемой собственной волей душе животных у греческого философа Филона или по крайней мере в трактате Иеронима Рорария «quod animalia bruta ratione utantur melius homine» [5] или в его же «oratio pro muribus» [6]. Вы должны были бы знать также, что думали Липсиус и великий Лейбниц об умственных способностях животных или что сказал ученый и мудрый раввин Маймонид о душе животных. Едва ли тогда вы приписали бы мой ум тому, что я некий злой демон, и уж не стали бы мерить духовную силу ума по физическим размерам тела. Мне думается, что в конце концов вы склоняетесь к остроумному воззрению испанского врача Гомеса Перейры, который видит в животных только искусно сделанные машины без способности мышления, без свободной воли, движущиеся непроизвольно, автоматически. Но нет! я не допускаю, что вы можете дойти до такой пошлости, добрейший мой господин Перегринус Тис, и твердо уверен, что благодаря моей ничтожной особе вы давно уже усовершенствовали свой взгляд на вещи. Далее, я не совсем понимаю, что называете вы чудом, драгоценнейший господин Перегринус, или как это вы делите на чудесные и нечудесные явления нашего бытия, которые, собственно говоря, суть опять-таки мы сами, ибо они нас и мы их взаимно обусловливаем. Если же вы чему-нибудь удивляетесь потому, что вам ничего такого еще не случалось встречать, или потому, что вам не удается уловить связь между причиной и следствием, то это доказывает лишь врожденную или болезненную тупость вашего взгляда, которая вредит вашей способности познавать. Но ― не во гнев вам будь сказано, господин Тис, ― смешнее всего то, что вы сами хотите разделить себя на две части, из коих одна вполне допускает так называемые чудеса и охотно в них верит, другая же, напротив, крайне удивляется этому допущению и этой вере. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, верите ли вы сновидениям?
― Послушайте, ― перебил Перегринус маленького оратора, ― послушайте, дорогой мой! ну, как вы можете говорить о сновидении, которое есть только результат какого-нибудь непорядка в нашем телесном или духовном организме.
При этих словах господина Перегринуса мастер-блоха разразился тонким и саркастическим смехом.
― Бедный, ― сказал он несколько смущенному Перегринусу, ― бедный господин Тис, как мало просветлен ваш разум, что вы не видите всей глупости такого мнения? С той поры как хаос слился в готовую для формовки материю ― а это было довольно-таки давно, ― мировой дух лепит все образы из этой предлежащей материи и из нее же возникают и сновидения с их картинами. И эти картины ― не что иное, как очертания того, что было, а возможно, и того, что будет, которые дух быстро и прихотливо набрасывает, когда тиран, именуемый телом, освобождает его от рабской службы ему. Но здесь не время и не место оспаривать ваши мнения и пытаться переубедить вас; да возможно, что это было бы и бесполезно. Мне хотелось бы только открыть вам еще одну вещь.
― Говорите, ― воскликнул Перегринус, ― говорите или молчите, дорогой мастер, делайте так, как найдете лучшим; я достаточно убедился в том, что как вы ни крохотны, а ума и глубокой учености у вас куда больше, чем у меня. Вы приобрели мою безграничную доверенность, хотя я и не всегда понимаю ваши аллегории.
― Так узнайте, ― начал снова мастер-блоха, ― узнайте же, что вы запутаны в историю принцессы Гамахеи совершенно особенным образом. Сваммердам и Левенгук, чертополох Цехерит и принц пиявок и, сверх того, еще гений Тетель ― все они стремятся к обладанию прекрасной принцессой, да я и сам должен сознаться, что, к сожалению, и моя старая любовь пробудилась, и я мог быть настолько глуп, чтобы разделить мое владычество с прекрасной изменницей. Но вы, вы, господин Перегринус, вы здесь ― главное лицо, и без вашего согласия прекрасная Гамахея никому не может принадлежать. Если вам желательно узнать более глубокую связь событий и всю суть этого дела, которых я сам не знаю, вам надлежит побеседовать о том с Левенгуком, который уже до всего доискался и, конечно, проговорится, если только вы постараетесь и сумеете как следует его повыспросить.
Мастер-блоха хотел продолжать свою речь, как вдруг из кустов выскочил какой-то человек и яростно набросился на Перегринуса.
― Ага! ― кричал Георг Пепуш (это был он), дико размахивая руками. ― Ага, коварный, вероломный друг! Так я нашел тебя! Нашел в роковой час! Вставай же, пронзи эту грудь или пади от моей руки!
И Пепуш выхватил из кармана пару пистолетов, всунул один из них в руку Перегринуса, а сам с другим стал в позитуру, вскричав:
― Стреляй, жалкий трус!
Перегринус стал на место, но заявил, что ничто не заставит его совершить такое безумство ― стреляться со своим единственным другом, даже не подозревая из-за чего. И уж ни в коем случае он первый не посягнет на жизнь друга.
На это Пепуш дико захохотал, и в то же мгновение пуля вылетела из его пистолета и прострелила шляпу Перегринуса. Тот, не поднимая шляпы, свалившейся на землю, в глубоком молчании уставился на друга.
Пепуш приблизился к Перегринусу на несколько шагов и глухо пробормотал:
― Стреляй!
Тогда Перегринус быстро разрядил пистолет в воздух.
С громким воплем, как безумный, бросился Георг Пепуш на грудь своего друга и закричал раздирающим душу голосом:
― Она умирает ― она умирает от любви к тебе, несчастный! Спеши ― спаси ее ― ты можешь это! ― и спаси ее для себя, а мне дай погибнуть в диком отчаянии!
И Пепуш убежал прочь с такой быстротой, что Перегринус потерял его в ту же минуту из виду.
Тяжкое беспокойство овладело Перегринусом, он подумал, не вызвано ли бешеное поведение его друга каким-нибудь несчастьем с милой малюткой. Стремительно поспешил он назад в город.
Дома старая Алина встретила его громкими причитаниями, что бедная прекрасная принцесса внезапно очень сильно занемогла и, наверно, скоро умрет; старый господин Сваммер сам лично пошел за лучшим врачом Франкфурта.
Убитый горем, Перегринус на цыпочках вошел в комнату Сваммера, дверь которой отворила ему старуха. Бледная, неподвижная как труп, лежала малютка на софе, и Перегринус расслышал ее тихое дыхание, только став на колени и наклонившись над ней. Как только Перегринус взял холодную как лед руку бедняжки, на ее бледных губах заиграла болезненная улыбка и она прошептала:
― Это ты, мой милый друг? Ты пришел сюда взглянуть еще разок на ту, которая тебя так невыразимо любит? Ах! оттого ведь она и умирает, что не может дышать без тебя!
Перегринус, почти обезумев от горя, разразился уверениями в своей бесконечной любви, твердя, что нет ничего в мире, чем бы он не пожертвовал для своей милой. Слова перешли в поцелуи, а в поцелуях как дыхание любви послышались снова слова.
― Ты знаешь, ― невнятно звучали ее слова, ― ты знаешь, мой Перегринус, как велика моя любовь к тебе. Я могу быть твоей, а ты моим, я могу тотчас же выздороветь, и ты увидишь меня расцветшей в свежем блеске юности; как цветок, напоенный утренней росой, подниму я радостно свою поникшую голову, но ― отдай мне пленника, мой дорогой, любимый Перегринус, а то я на твоих глазах изойду в несказанной смертной муке! Перегринус ― я больше не могу ― все кончено.
И малютка, только что приподнявшаяся наполовину, вновь поникла на подушки, грудь ее то поднималась, то опускалась порывисто, как в предсмертном борении, губы посинели, взор, казалось, угасал. В дикой тоске схватился Перегринус за галстук, но мастер-блоха уже сам прыгнул на белую шею малютки, воскликнув голосом глубочайшей скорби: «Я погиб!»