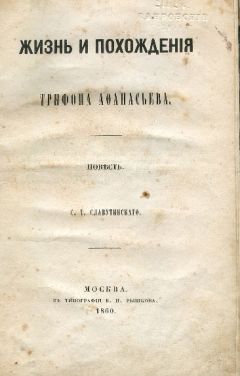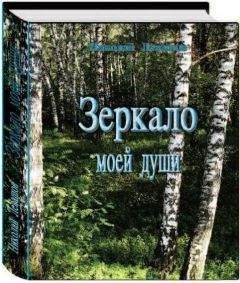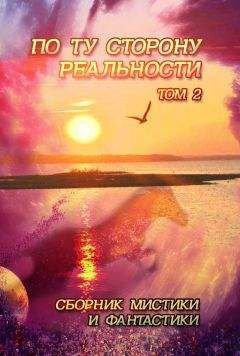Степан Славутинский - Жизнь и похождения Трифона Афанасьева
Следователь, частный пристав, был великий скептик, как и подобает быть у нас полицейскому чиновнику. Он заподозрил тоже и доказчика если не в прямом преступлении, то по крайней мере в соучастии с Ванькой и Ефремом.
— Эге, друг! — говорил он, понюхивая табачок "для освежения мыслей". — Ты у меня не вертись! ты у меня и не думай вертеться… Я вашего брата знаю вдоль и поперек! Что ты думаешь — мало перебывало у меня воров и мошенников на разную стать? Эге! да еще какие мошеннички-то бывали! что твои гусли… Так-то, любезный! Ты вот постой, я тебе по пальцам все расскажу и растолкую.
Тут словоохотливый частный пристав приостановился, разом зарядил свой нос крупной порцией табачку, подошел вплоть к Трифону, дружески потрепал его по плечу, приподнял голоьу его вверх, стукнув, не совсем-то уж по-дружески, кулаком а подбородок, — и, беспрестанно подмигивая левым глазом да улыбаясь слегка и как-то особенно лукаво, начал говорить с подобающей важностью:
— Ну, братец ты мой, наперед тебе объявляю: сердце мое чует — ведь оно у меня вещун, — сердце мое чует, что будешь ты моим "крестничком". Так ты чем скорее сознаешься, тем для тебя же будет лучше, — что без толку время волочить?.. Теперь слушай внимательно да смотри мне прямехонько в глаза, — я, брат, очень люблю, коли мне в глаза прямо смотрят, а стоят чинно и смирно. Ты говоришь, что Ванька и Ефремка украли, а сам ни в чем не виноват, а я тебе скажу: быть сего не может!.. И вот почему…
Трифон не выдержал; его уж давно подмывало огрызнуться.
— Ан нету!.. — прервал он, горячо размахивая руками. — Отродясь вором не был… вот однова дыхнуть!.. Вишь ты: я ж доказал на воров, а на меня вину валят!.. Да я…
Частный проворно подбежал к нему.
— Тсс!.. молчать! — вскричал он, зажимая широкой ладонью своей рот Трифона. — Что ты это?.. С ума никак сошел!.. Я лишь на первый раз решаюсь простить тебе такую предерзость. Начальство с тобой говорит, начальство доказывает тебе, начальство изволит тебе доказывать, — а ты рот свой мерзкий разеваешь, а ты руками смеешь размахивать! Ну, смотри у меня!.. В другой раз я не осмелюсь даже простить, а тут же должен буду… да, да!.. ни гугу! смотри!..
Вслед за этим он опять приподнял голову Трифона, два раза стукнув его кулаком в подбородок, так что у малого зубы во рту ходенем заходили. Такие убедительные доказательства подействовали на Трифона: с этого раза он уже не прерывал следователя.
— Ну, слушай же, малой, — начал опять частный пристав. — Я буду говорить доказательно, а дельце твое рассужу как по-писаному. Это страсть моя — объяснять всякому воришке, в чем его провинность состоит; надо же вас, мошенников, с законами знакомить. Вот как дело было у вас: все вы трое — я, брат, справедлив и знаю, что не ты один, — все вы трое заблаговременно сговорилися, умысел учинили, и яму вместе вырыли, и хозяев дурманом опоили, — ведь спали они как сурки и ничего не слыхали, — а потом сундук вместе украли… Ну, а, наконец, заделили друг друга, вот ты — в дележке, значит, обиженный — и доказываешь теперь. А то с чего бы тебе знать и про яму и про все там? Невероятно! невероятно!.. Так, что ли, малой… ведь заделили тебя?..
— Нету, помилуйте!.. — отвечал Трифон. — Как так заделили? Помилуйте!.. да сундук-от целехонек найден, не разбит и не отперт…
Возражение это озадачило частного. Он несколько раз повторил глубокомысленно: гм! гм!.. и несколько раз освежил свои соображения крепкими понюшками.
— Ты, однако, не сбивай меня, братец! — сердито сказал он. — Слышишь? не сбивай меня!.. Знаю я, что цел, — ну, так что ж такое! Всё же могли вы поссориться и разладить, хоть, например, из того, что один из вас, за большее участие в деле, хотел воспользоваться лучшею долею. Ну, сам скажи: могли поссориться? могли разладить?..
— А почем я знаю, чего не знаю! — возразил грубовато Трифон.
— Экой ты скот, братец ты мой! Экой ты скот… все-то запираешься… — промолвил как-то задумчиво частный, — сила скептических его соображений опять заметно ослабела. — Ну, а что ты скажешь, — продолжал он, уже путаясь в словах: — что скажешь… вот, например, да!.. ну, о том, что хозяев-то дурманом за ужином опоили?..
Яркая мысль мгновенно озарила голову Трифона.
— Да и я с ними ужинал! — быстро вскричал он. — Ваше высокоблагородие! я тоже спал как убитый… Сам хозяин насилу меня добудился, — вот извольте спросить… А Ванька и Ефрем не ужинали…
Слова эти и подтвердившие их показания хозяев повели к расследованиям. Ванька и Ефрем чрезвычайно спутались; сначала они заперлись было в том, что не ужинали, а потом разбились в речах: хозяева и Трифон во многом их уличили. Частный пристав оказался не только говоруном и скептиком, но и неумолимым преследователем преступления. Он загонял Ваньку и Ефрема полицейскими силлогизмами, для большей убедительности которых не пожалел и вспомогательных средств, то есть всяких угроз, обещаний, что ничего не будет за признание, а особенно лихих "зубочисток", и, наконец, Ефрем сознался, а Трифон окончательно был оправдан в полицейском судилище.
Как видите, порок наказан, добродетель Трифона восторжествовала. Но восторжествовала добродетель эта не в глазах частного пристава. В каком-то раздумье и с явным неудовольствием выпустил он из-под ареста Трифона.
— Ну, любезный, — молвил он при этом, — ловкий ты мошенник, из молодых, да ранний. А помяни мое слово — не сносить тебе головы: не мне, так другому попадешься и уже не отвертишься…
Но этим предсказанием он не ограничился. Получив от хозяина "благодарность" за благополучное окончание дела, он, в порыве своей благосклонности, счел долгом предупредить его насчет Трифона.
— Смотри ты в оба и как огня берегись этого малого, — сказал он хозяину. — Продувная бестия! На речах какой бойкий — мало встречал я подобных мошенников. Просто вот глаза отвел, из воды сух вышел. А все скажу: не может быть сего! Уж как-нибудь да участвовал он в этой краже…
Хозяин много кланялся за такое предупреждение. И не пропало оно даром. С этого разу он стал нападать на Трифона, во всем его подозревая; хозяйка тоже взъелась на него; взятые на место Ваньки и Ефрема работники искоса на него глядели и часто поговаривали, что "вот доносчику-то надо бы первый кнут". Не раз Трифон и сам упрекнул себя за то, что показал на бывших своих товарищей.
"А, пожалуй, лучше б не показывать… — думал он, — и так бы дело-то сошло… Сундук вот… что ж!.. я-то им не покорыстовался бы, а хозяин сам бы, чай, нашел его, а то можно б ему было указать опосля… Вишь ты, за правду-то каково стоять!.. поди-кась, напасть вышла какая! И мошенником тоже сочли, — и чем бы спасибо сказать, а тут все, как есть, взъелись… Наустил меня лукавый!.."
Скоро опротивело ему такое житье; болезненно оскорбляли его эти несправедливые подозрения, эта вражда, эти попреки. Хозяин не сгонял его еще от себя, но ясно было, что он хочет от него отделаться, — Трифон сам решился перейти на другое место. Он потребовал расчета, а хозяин и тут его притеснил, обсчитав на несколько десятков рублей; крупно поругался с ним Трифон и объявил, что "до суда дойдет" из-за своей обиды.
— Эва! угрозил ты нам! — возразил хозяин. — Нас, брат, знают-то получше. Мы начальство-то уважаем, не однова сходим с поклоном, доступ ведь имеем… Да чем таким ты докажешь-то?..
Хозяин был прав. Частный пристав — старый наш знакомый — рассудил дело как следует.
— Экая ты бестия, — сказал он Трифону, — и бестия-то неугомонная!.. Из пустяков сущих к начальству лезешь, беспокоишь!.. Ты, мошенник, вспомнил бы старое-то дельце. Добрый еще человек твой хозяин, что тогда же не постарался запрятать тебя в острог, да еще сколько времени держал тебя после того… Пошел вон и не смей лезть на глаза из-за всякой дряни!..
Этот-то весьма обыкновенный случай имел большое влияние на развитие характера Трифона. Он раздражил его и поселил в нем недоверие к окружающим его людям и ко всему его положению. Положение это было таково, что часто приходилось ему встречаться с людской несправедливостью, а он не умел выносить и терпеть, не умел прилаживаться к обстоятельствам. От этого и он, подобно дяде-мошеннику, нигде не уживался. Правда, он не лишался чрез то работы. Русский люд, особенно промысловый, непривередлив, и коли один хозяин, по какой ни на есть причине, расстанется с работником, вчастую не добром расчетшись с ним, наверное сыщется другой, который тотчас же примет к себе прогнанного; однако для Трифона мало толку было в этом. Как только приходилось ему искать места, новый хозяин прижимал его, бывало, и давал плату неподходящую. Но делать было нечего, — Трифон нанимался и за такую плату. Таким образом, цена с его работы, труда потового, сильно всегда упадала. Трифон был умен, он хорошо видел все это и знал досконально, по какой причине дело его "не выгорает", а все-таки невмочь было ему поправить беду: как быть, с таким нравом "ничего не поделаешь".