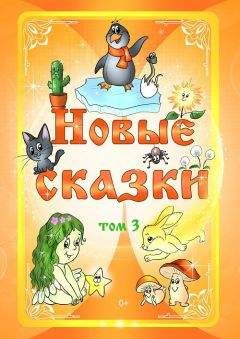Василий Тихонов - Страшные сказки
Много он еще такого рассказывал, однако батюшка его не залюбил изрядно.
— Еретник, — говорит, — ты, Гриша, созлый. Анафема проклятая!
А тот уж ничего не отвечал, улыбался только странной своей улыбкой. Но дед тогда этого не ведал. Взбодрился, на Гришу глядя. Ничего страшного, наоборот, вон он какой просветленный вышел. За ружье крепко взялся — охотник ведь был, крестом зарядил — да и в баню. А там не то мылом, не то ладаном пахнет, может, и березовый дух стоял, дед уж этого не упомнит. Жутко опять стало, но пересилил себя, пальнул. Стены банные закачались, на каменку ровно кровью брызнули — пар солоноватый прошел, и жаром страшным потянуло так, что камни стали потрескивать. Чует дед: не один он стоит, хотя и не видать никого. Появилась тут собака огненная — сначала махонькая, потом все больше и больше, уж и на полке не помещается. Искрами брызжет, а на что похожа — и не углядишь, лик ее убегает куда-то. Пасть, однако, расщеперила, а с губы слюна каплет, пол земляной чуть не до камня прожигает. В этакую страсть-то прыгать! Зубища, как косари, по ним кровь черная бежит... Дальше дед никогда и не рассказывал. Очнулся, говорит, в той же бане, у столба. Чует: кто-то его за пятки щиплет — лебедь белая старается. И тоже ведь в пасти у ей зубья торчат. Понял дед, что еще испытание предстоит. И взаправду, лебедь пасть свою расщеперила: полезай, мол! Полез и — вот диво — оказался за дверью дубовой, в казенном каком-то помещении. Там все столы, столы понаставлены и юркие какие-то бегают. Стали они его от одного к другому подпихивать, пока разобрались, зачем мужик пожаловал. У деда уж и голова кругом пошла. Спрашивают они:
— Тебе сколько?
— Да чего?
— А за чем пришел.
— А-а, вон чего... Да мне одного мужика спортить, больше не надобно.
— Ишь ты какой! Мы меньше трех и не даем.
Насилу уломал их Карпа — одного посулили.
Тут опять закрутило его, заметелило, под зад коленом поддали — дед в дверь и вылетел. Глядит: опять в бане. А в окошко уже и утро видать. Стряхнул дед пыль с колен — и за дверь. Идет, а за ним парнишечка-углашек увязался какой-то незнакомый. Бежит вприпрыжку и канючит, ну, совсем как дите малое:
— Дяденька, дай работу, дай работу!
— Да какую ж я тебе, такому углану, работу дам?
— А вона, коров на выпас гонют, хоть одну спорть.
Колдуны-то, они, вишь, поначалу скотину портят, кошку там, собаку ли. Уж потом на людей переходят. Тогда от них самое зло большое и идет.
Ну, делать нечего, пришлось деду за корову взяться, сам и не знает, как такое получилось. Спортил он корову, а тут еще парнишечка откуда-то взялся, тоже за ним поспевает. Бегут и оба в голос блажат:
— Дяденька, давай работу! Дяденька, давай работу!
А время-то сенокосное было — самая пора. Привел их дед на двор — литовки наладил — и айда на покосы. Идут по улице, а Карпа удивляется: хоть и двое их, парнишков, однако никто их не замечает. Ну ладно, пришли, весь день пластались, косами махали, а парнишечки все не унимаются, работу просят. По дороге опять же кошку спортили, ан третий углан откуда-то взялся. А потом, говорит, чем дальше, тем больше. Поутру на покос пришел, а трава-то даже и не примята там, где биси-то косили. Парнишечки биси и есть. Ни травинка не ворохнулась, всё — как было, только та полоса, где хозяин сам шел, и выкошена. А парнишечки грозиться стали:
— Коли не дашь работу, тебя самого замучим! Сам себя съешь, грызь в требуху запустим. То-то мы на поминках попляшем!
Карпа уж и не знает, что делать: матюком крыть или в колокола бить. Биси пуще того изголяются:
— Расскажешь кому про нас, вовсе со свету сживем, кожу спустим. Наш ты теперя, никуда не денешься!
Так и глумятся.
Люди-то бисей не видят, не слышат. Одному деду их видать. Он попервости, вишь, думал, что чужих разоблачать будет, ан нет, не получилось. Уж сколько раз к Николаю Венедиктовичу наведывался — ни одного не видал. Дед Колян усмешку только строил.
— Ты,— говорит, — не тужи, Карпуша, из-за бисей. Ну их, чужих-то, от своих житья нет. Ты-то еще малехо попортил, а мои уж в голбец едва влазят. Старуха туда давно не спущается — боится. И все ить, стервецы, работу просят. Где ж я им столько работы наберу? Уж и одного здорового в деревне не осталось. Сам посуди: идет девка, ядреная, титьки из сарафана того и гляди вылезут, ан в чреве ее не младенчик — грызь, по ветру пущенная, требушинку поедом ест. К Рожеству, глядишь, и преставится.
— Страшно так-то, Николай Венедиктович. Чем же их кроме человечинки прокормить возможно? Сам говоришь, что все уж в деревне порченые.
— Это, Карпуша, дело поправимое. Они хитры, да и мы не промах. Видал ты осину? У самой росстани стоит, старая, совсем рассохлась.
— Видал, как не видать, это которая у Кривого лога.
— А как листочки на ей дрожат, видал? Моя осина, мне дадена. Как биси одолевать начнут, я им такую работу даю. «Пшли, — говорю, — на старую осину листья считать!». Они хотя и мучители наши, а слушаться должны! Вот биси на нее и лезут. Считают, считают, а ветер дунет, они со счета и сбиваются. Один «Тыща!» — кричит, другой: «Две!», а третий и вовсе несметуру несет какую. Так и передерутся, перессорятся. А мне, глядишь, ослаба хоть на время.
Вот ты, молодой человек, улыбаешься — совсем, мол, Егор Иваныч из ума выжил, а сам посуди. Голубь-то, вишь, птичка святая, Божья. Господь, он един в трех лицах: Бог-отец, Бог-сын и Бог-святой дух. Святой дух, он тот самый голубь и есть. Так вот, птичка эта святая ни в жисть на осине свой полет не остановит. На какую хошь лесину опустится, а на осину никогда. Колдовское это дерево, бесовское. Опять же почему она колдуну отдана? Владей, не хочу! Июду-христопродавца знаешь, поди? Дак вот, он Господа нашего за тридцать сребреников продал — дьявола потешил. А тому только этого и надо — душу людскую подловить, укараулить. Не стало Июде покою, вот дьявол в петлю его и затолкал на самую Пасху. Удавился-то он на осине — с той поры она и дрожит, то ли от бисей, то ли от тела черного, души гнусной. Из осины и для хозяйства ничего путного не сделаешь. Это только в верхах у нас из нее лодки делают. Ну это так, к слову пришлось.
Слушай дале, как дедушка мой колдуном был. Хошь, не хошь, а придумывать с бисями ему много пришлось. Мужика, которого хотел, он так и не испортил, того еще раньше лесиной задавило. А куды денешь бисей-то? Вот он и придумывал. На осину отправит листья считать — они там с коляновскими повстречаются да и передерутся. Вот люди осину ту обходить стали. Как мимо ни пойдешь, она все ходуном ходит, чуть не с корнями из земли выскакивает. Или маку горсть бросит им, чтобы весь до зернышка собрали и пересчитали. Они уж и в рост пошли: юркие, пузатые, гунявые. Дед их мучицей да болтушкой подкармливал, чтобы его самого не так грызли. С бабкой мешки разделил — один ее, другой дедов. Это уж бабка сама рассказывала:
— Пошла, — говорит, — я раз в голбец за капустой да посмотреть, че это у мужика мука так быстро идет. Спущаюсь — Матушка-заступница! — сидит у мешка мужичонка бородатенький да муку прямо ладонями трескает. Морда, как у кошенка, глаза светятся, на усах мукой обметано. Я ему: «Кыш, проклятущий!» А он вдруг расти начал, прямо на глазах поднимается, разбухает. Да так по-нехорошему все ухватить норовит. И дышать невмочь стало — задыхаюсь, уж захрипела. Тут, думаю, и конец мой настал. И не отобьешься ведь! Меня вон в девках два солдата в кустах поймали, уж и юбку на голову закинули, да я отбилась. А тут ни рукой, ни ногой не шевельну. Сама не помню, как я выскочила. Ох, досталось Карпе тогда, до сих пор мою отметину на темени носит! «Мне, — грит, — рассказывать не велено, а то вовсе замучают». Тьфу, пропасть! Гадость какая!
И страшно деду, а все интересно, хоть одним глазком охота поглядеть, какие они, биси, у других-то. Снова к Николаю Венедиктовичу пошел, больше-то не знает, к кому.
— Ох, паря, не дело ты задумал, ни к чему это все. Ну что они тебе на душу пали?! Ладно, коли уж загорелось в трубе, слушай. Только одно скажу: так все было, не так — не ручаюсь. Был, говорят, в деревне нашей гармонист. Фасонистый, гордый не по годам, но музыкант был изрядный. У них ведь как заведено: денег не плати, только окажи почет и уважение. Так и шло все чин чинарем, но вдруг случилось, что на пирушки его звать перестали. То ли другой какой гармонист объявился, то ли еще какая причина. Заскучал он — обидно стало. Гармонию чуть не на вышку забросил. А тут вышел раз на крыльцо да и сказал в сердцах: «Хоть бы меня черти на вечорку позвали!» Ближе к вечеру парни незнакомые приходят: «Ты, что ль, гармонист?» — «Ну я. А вам-то какая печаль?» — «Зря злишься. Приходи лучше в баню нашу, поиграй малехо. Мы тебе хорошо заплатим». Гармонисту-то того и надо, но для виду еще поторговался: и идти, мол, далеко, и денег маловато, и охоты нет на ночь глядя. Согласился все ж. «А баню нашу, — грят, — по синенькому огонечку найдешь». Пошел он, как стемнело. Долго плутал, огонечек синий его, однако, вывел. Свет от него какой-то неяркий шел, будто месяц молодой сквозь тучку проглядывает. Вошел парень в предбанник — пусто. Банную дверь приоткрыл — там окромя огонечка ничего нет. Прикрыл только, — как козочки по мосту колготятся, — застучало по доскам, да дверь сама собой и распахнулась. Глядит, и странно ему делается: парни те же, девки при них незнакомые, да баскущие такие, что глаза отвесть невозможно, и все вроде как положено, — закуски, полштоф на полке — однако что-то не так. То ли девки больно бесстыжие, ногу чуть не выше колена кажут, то ли парни больно мордастые да круглые, не поймешь. Ну да ладно, плюнул гармонист сквозь зубы, сел в уголок, пальцами по кнопкам пробежал и заиграл. Те сразу заскакали. И пляска у них такая удивительная, какой он и вовсе не видал. «Не моя, — думает, — забота, как пляшут. Мое дело маленькое — прокукарекал, а там хоть не рассветай». Играет, пот со лба утирает, а эти все не унимаются. Стал гармонист примечать: они, когда скачут, пальцы в скляницу макают, глаза снадобьем каким-то трут. Любопытно ему стало, что за снадобье такое налажено, улучил минутку и залез одним пальцем, пока плясуны отвернулись. Правый глаз смазал. Тут как искры посыпались, стены у бани сразу разъехались, и оказались они то ли во дворце, то ли в кабинете каком. А парни и девки бесстыжие совсем другими сделались. Хвостатые и рогатые, прыгают друг на друга, на полу извиваются! Срам, да и только! Гармонист от изумления и играть-то бросил. Они к нему: пошто, мол не играешь?! — «Да мне до ветру надобно, по нужде». — «Не пустим, удерешь». — «Да я вам гармонию оставлю. Вот те крест!» Как крест-то на себя наложил, они вроде съежились и от дверей бочком, бочком попятились. Вскочил парень на вольный воздух — и деру! А место-то узнать не может. Сам не помнит, как до дому добрался. На печь залез да там и дрожал до утра. А утром со святой водицей, с крестом пошел ту баню искать. Насилу отыскал. Гармонь, говорит, в клочья порвали — одни планки остались. Да еще скляница на полке стоит. Парень уж ее не тронул, углы только банные окропил святой водицей, помолился, дверь с окном крестом обнес. Так и сейчас эту баню Чертовой называют, не моется там уж никто.