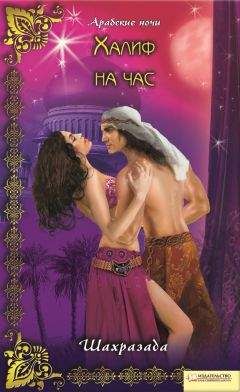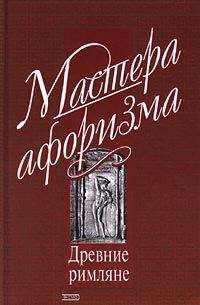Уильям Бекфорд - Ватек
Султанша Дилара, до сих пор бывшая первой его любимицей, отнеслась к этому со страстностью, присущей ее характеру. За время, пока она была в милости у халифа, она успела проникнуться его сумасбродными идеями и горела желанием увидеть гробницы Истахара и дворец сорока колонн; к тому же, воспитанная магами, она радовалась, что халиф готов предаться культу огня[37], и ее вдвойне удручало теперь, что он ведет сладострастную и праздную жизнь с ее соперницей. Мимолетное увлечение Ватека благочестием сильно встревожило ее; но это еще ухудшало дело. Итак, она решила написать царице Каратис, что дела плохи, что явно пренебрегают велениями пергамента, что ели, пользовались ночлегом и устроили переполох у старого эмира, святость которого весьма опасна, и что нет более вероятия добыть сокровища древних султанов. Это письмо она доверила двум дровосекам, работавшим в большом лесу на горе; идя кратчайшим путем, они явились в Самарру на десятый день.
Когда прибыли гонцы, царица Карагис играла в шахматы с Мораканабадом. Уже несколько недель не навещала она вершины башни: светила на вопросы о сыне давали ответы, казавшиеся ей неясными. Сколько ни совершала она воскурений, сколько ни лежала на крыше, ожидая таинственных видений, ей снились лишь куски парчи, букеты и тому подобные пустяки. Все это приводило ее в уныние, от которого не помогали никакие снадобья собственного изготовления, и последним ее прибежищем был Мораканабад, простой хороший человек, полный благородной доверчивости; но его жизнь при ней была не особенно сладка.
Так как о Ватеке ничего не было известно, то на его счет распространяли тысячи смешных историй. Понятно, с какой живостью вскрыла Каратис письмо и в какое впала бешенство, когда прочла о малодушном поведении сына. «О, сказала она, — или я погибну, или он проникнет во дворец пламени; пусть я сгорю в огне, лишь бы Ватек воссел на трон Сулеймана!» При этом она сделала такой ужасный прыжок, что Мораканабад в страхе отскочил; она приказала приготовить своего большого верблюда Альбуфаки, позвать отвратительную Неркес и безжалостную Кафур. «Я не хочу иной свиты, — сказала она визиру, я еду по неотложным делам, значит, не нужно пышности; ты будешь заботиться о народе; обирай его хорошенько в моем отсутствии; у нас большие расходы, и неизвестно еще, что из этого выйдет».
Ночь была очень темная, с равнины Катула дул нездоровый ветер; он устрашил бы любого путника, сколь важно ни было бы его дело, но Каратис нравилось все мрачное. Неркес была того же мнения, а Кафур имела особенное пристрастие к зараженному воздуху. Утром это милое общество в сопровождении двух дровосеков остановилось у берега большого болота, откуда подымался смертоносный туман, который оказался бы гибельным для всякого животного, только не для Альбуфаки, легко и с удовольствием вдыхавшего эти вредные испарения. Крестьяне умоляли женщин не ложиться спать в этом месте. «Спать! — воскликнула Каратис. — Прекрасная мысль! Я сплю только для того, чтобы иметь во сне видения, а что касается моих служанок, у них слишком много дела, чтобы закрывать свой единственный глаз». Беднякам становилось не по себе в этом обществе; им оставалось только изумляться.
Каратис и негритянки, сидевшие на крупе верблюда, слезли; раздевшись почти догола, они бросились под палящим зноем за ядовитыми травами, в изобилии росшими по краям болота. Эти припасы предназначались для семьи эмира и для всех, кто мог сколько-нибудь помешать путешествию в Истахар. Три страшных призрака, бегавших по берегу среди бела дня, навели ужас на дровосеков; им не очень нравилось также общество Альбуфаки. Но еще хуже было то, что Каратис приказала трогаться в путь в полдень, когда от жара чуть не лопались камни; можно было многое возразить, но пришлось повиноваться.
Альбуфаки очень любил пустыню, и каждый раз фыркал, замечая признаки жилья, а Каратис, баловавшая его по-своему, тотчас сворачивала в сторону. Таким образом, крестьяне не могли поесть в продолжение всего пути. Козы и овцы, которых, казалось, посылало им Провидение и чье молоко могло бы освежить их, убегали при виде отвратительного животного и его странных седоков. Сама Каратис не нуждалась в обыкновенной пище, так как с давних пор она довольствовалась опиатом собственного изобретения, которым делилась и со своими немыми любимицами.
С наступлением ночи Альбуфаки вдруг остановился и топнул ногой. Каратис, зная его замашки, поняла, что, вероятно, по соседству кладбище. Действительно, в бледном свете луны виднелась длинная стена и в ней полуоткрытая дверь, настолько высокая, что Альбуфаки мог в нее пройти. Несчастные проводники, чувствуя, что подходит их смертный час, смиренно попросили Каратис похоронить их так, как ей будет угодно это сделать, и отдали богу душу. Неркес и Кафур по-своему насмеялись над глупостью этих людей, кладбище им очень понравилось, и они нашли, что гробницы имеют приятный вид; на склоне холма их было по крайней мере две тысячи. Каратис, слишком занятая своими грандиозными замыслами, чтобы останавливаться на таком зрелище, как бы ни было оно приятно для глаз, решила извлечь выгоду из своего положения. «Наверно, — говорила она себе, — такое прекрасное кладбище часто посещается гулами; эти гулы не лишены ума; так как я по оплошности дала умереть своим глупым проводникам, спрошу-ка я дорогу у гулов, а чтоб их привлечь, приглашу их отведать свежего мяса». Затем она объяснилась жестами с Неркес и Кафур и приказала им пойти постучать по могилам и посмотреть, что будет.
Негритянки, довольные этим приказом и рассчитывая на приятное общество гулов, удалились с победоносным видом и принялись постукивать по могилам. В ответ из-под земли послышался глухой шум, песок зашевелился, и гулы, привлеченные запахом свежих трупов, полезли отовсюду, обнюхивая воздух. Все они собрались к гробнице белого мрамора, где сидела Каратис и лежали тела ее несчастных проводников. Царица приняла гостей с отменной вежливостью; поужинав, стали говорить о делах. Она скоро узнала все, что ей было нужно, и, не теряя времени, решила отправиться в путь; негритянки, завязавшие любовные шашни с гулами, знаками умоляли Каратис подождать хоть до рассвета, но Каратис была сама добродетель и заклятый враг любви и нежностей; она не вняла их мольбе и, взобравшись на Альбуфаки, приказала как можно скорее садиться. Четыре дня и четыре ночи они были в пути, нигде не останавливаясь. На пятый переправились через горы и проехали наполовину сожженными лесами, а на шестой прибыли к роскошным ширмам, укрывавшим от нескромных взоров сластолюбивые заблуждения ее сына.
Всходило солнце; стражи беспечно храпели на постах; топот Альбуфаки внезапно пробудил их; им показалось, что это явились выходцы из царства тьмы, и в страхе они бесцеремонно удрали. Ватек с Нурониар сидел в бассейне; он слушал сказки и издевался над рассказывавшим их Бабабалуком. Встревоженный криками телохранителей, он выскочил из воды, но скоро вернулся, увидев, что это Каратис; все еще сидя на Альбуфаки, она приближалась со своими негритянками, рвала в клочья муслин и другие тонкие ткани занавесей. Нурониар, совесть которой была не совсем покойна, подумала, что наступил час небесного мщения, и страстно прижалась к халифу. Тогда Каратис, не слезая с верблюда и кипя от бешенства при виде представшего пред ее целомудренным взором зрелища, разразилась беспощадной бранью. «Чудовище о двух головах и четырех ногах, — воскликнула она, — что это за штуки? Не стыдно тебе променять на девчонку скипетр древних султанов? Так из-за этой-то нищенки ты безрассудно пренебрег повелениями Гяура? С ней-то ты тратишь драгоценные часы? Так вот какой плод ты извлекаешь из всех познаний, которыми я тебя снабдила! Разве это цель твоего путешествия? Прочь из объятий этой дурочки; утопи ее в бассейне и следуй за мной».
В первый момент гнева у Ватека было желание вспороть брюхо Альбуфаки, набить его негритянками вместе с самой Каратис, но мысль о Гяуре, о дворце Истахара, о саблях и талисманах молнией блеснула в его уме. Он сказал матери учтиво, но решительно: «Страшная женщина, я повинуюсь тебе; Нурониар же я не утоплю. Она слаще засахаренного мираболана; она очень любит рубины, особенно рубин Джамшида, который ей обещан; она отправится с нами, ибо я хочу, чтобы она спала на диванах Сулеймана; без нее я лишаюсь сна». — «В добрый час!» ответила Каратис, слезая с Альбуфаки, которого передала негритянкам.
Нурониар, не желавшая расставаться со своей добычей, успокоилась немного и нежно сказала халифу: «Дорогой повелитель моего сердца, я последую за тобой, если нужно, и до Кафа, в страну афритов; я не побоюсь для тебя залезть в гнездо Симурга, который после твоей матери — самое почтенное создание в мире». — «Вот, — сказала Каратис, — молодая женщина, не лишенная мужества и познаний». Это было верно, но, несмотря на всю свою твердость, Нурониар не могла иногда не вспоминать о славном маленьком Гюльхенрузе и о днях любви, проведенных с ним; несколько слезинок затуманили ее глаза, что не ускользнуло от халифа; по оплошности она даже сказала вслух: «Увы, мой милый брат, что будет с тобой?» При этих словах Ватек нахмурился, а Каратис воскликнула: «Что это за гримасы? Что она говорит?» Халиф ответил: «Она некстати вздыхает о маленьком мальчике с томным взглядом и мягкими волосами, который любил ее». — «Где он? — перебила Каратис. — Я хочу познакомиться с этим красавчиком; я намерена, — прибавила она совсем тихо, — перед отъездом помириться с Гяуром; сердце хрупкого ребенка, впервые отдающегося любви, будет для него самым лакомым блюдом».