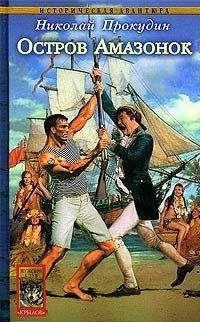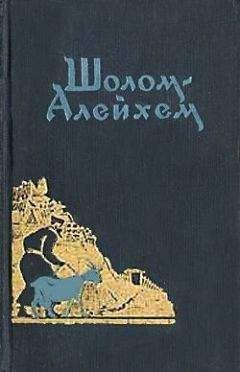Анна Никольская - Про Бабаку Косточкину
— Матрёна Игнатьевна, вы бы ружьишко-то прибрали. Всё-таки ребёнок в доме, — замечает Бабака с отвёрткой в зубах.
Она сидит на печи и чинит ходики. Вернее, подстреленную бабушкой кукушку. Бабака у нас — рукодельница и мастер на все лапы.
— Ох! — опять хватается за сердце баба Моня. — Ох, родимая! Никак не привыкну, что ты у нас говорящая. Ты, поди, и грамоте обученная?
— Я восьмилетку заканчивала, — с гордостью отвечает Бабака. — И курсы кройки и шитья. А ещё кулинарный техникум при Академии Федеральной службы безопасности.
— Она у нас замечательная, — поддакиваю я и зеваю во весь рот.
День на нервах и ночь без сна таки сделали из меня задохлика.
— Ишь ты! — присвистывает бабушка. — А ну, сними-ка, внучонок, пробу с моих кислых щей! Небось отродясь таких наваристых да жирных не пробовал!
— Я не голоден! — помня мамин завет, выкрикиваю я.
Баба Моня невозмутимо наливает дымящихся щей в глубокие тарелки с каёмкой, швыряет на стол три сочных белых луковки и вынимает из печки зажаристый каравай.
— Хлеб — всему голова! — говорит бабушка, не размыкая сросшихся бровей. — Чуете?
— Чуем! — говорим мы хором, вдыхая аромат свежего деревенского хлеба.
С хрустом баба Моня взрезает твёрдую золотистую корочку, и я вижу внутри жёлтый ноздреватый мякиш, от которого ещё валит тёплый пар.
— «И вальсы Шуберта, и хруст французской булки…» — напевает себе под нос Бабака и тянет лапу за корочкой.
— Пускай остынет малёк! — качает головой бабушка. — Грешно горячий хлеб есть. Сейчас поспите с дороги, и в лес рванём.
— За подснежниками?
— А вечерком в баньку по-чёрному!
— Щи у вас кисленькие такие, ням-ням! — подхалимничает Бабака. — И в горнице так светло! А скатёрку вы сами вышивали?
Я уплетаю щи, грызу луковку, слушаю болтовню моих родственниц, вдыхаю запах горячего мякиша и ощущаю себя полноценным деревенским жителем. Настоящим селянином. Аутентичным.
Глава 13
Из Калистратихи с любовью
— Бабушка, а куда мы идём?
— Любопытной Варваре на базаре язык оторвали, — деспотично отрезает баба Моня.
— Не язык, а нос, — поправляю я.
— Зачем нос рвать, когда язык как помело? — недоумевает бабушка.
— А на Руси в Средние века языки за сквернословие отрывали, — Бабака говорит. — Щипцами. Прямо с корнем.
— Святые мученики! Какие ты страсти, Бабака, рассказываешь!
— А вот в Японии, например, в самурайской среде практикуется уход из жизни посредством харакири, — не унимается Бабака.
— Я тебе покажу харакири-маракири! — Баба Моня кулаками как затрясёт. — Не слушай её, Костя! Лучше по сторонам гляди — красота-то какая!
Я гляжу по сторонам, но никакой особенной красоты не замечаю. Хвойный лес, сугробы все в иголках; льдом подёрнутые. Сделаешь шаг в сторону с тропинки, по пояс хрусть! — и утонешь.
Вот летом совсем другой коленкор, как выражается папа. Разные грибы — подосиновики там, подберёзовики, всякие волнушки, грузди. Ягоды тоже — костяника, земляника, черника с брусникою. Ляжешь, бывало, в черничник, в самую его сердцевину, на живот, ногами в воздухе болтаешь, ягоды с кустиков рвёшь, складываешь в рот. Или лучше на травинку нанизывать: черника, земляника, черника, земляника, черника, земляника — получаются маме бусики.
А сейчас разве поваляешься в лесу? Поди попробуй — только попу отморозишь, даром что весна! Одно хорошо — комаров нет. И чего мы сюда пришли, спрашивается?
— Баб, долго ещё?
Баба Моня сурово вышагивает впереди.
Не бабушка, а каменный Командор какой-то!
И Бабака не отстаёт. Баба Моня для неё авторитет и пример для подражания. Всего неделю живём в деревне, а Бабака уже научилась и поросят кормить, и Бурёнку доить, и бельё полоскать в ручье. Бабушка щи с квашеной капустой научила её варить и рыжики солить в кадушке. А Бабака в свою очередь устроила вечер японской кухни. Показала бабе, как роллы надо крутить. Вместо васаби, правда, у нас была горчица — бабы-Монина, ядрёная, а вместо угря — копчёный лещ. С бабой Моней после этого случился гастрономический шок. Помню, она сказала:
— Всю жизнь в Калистратихе прожила, про Японию знать не знала, ведать не ведала. А тапереча тянет меня в страну иероглифов, небоскрёбов и железобетонных конструкций — мочи нет!
Она даже хокку по ночам начала сочинять:
Снежную тропу,
Валенки, дорогу проложу
Будущих следов.
Ну, и так далее… А Бабаке подарила своё фиолетовое пальто. И вожжи, которые остались от дедушки. Он был конюхом. А ещё съездила в райцентр (деда Дима, почтальон, подбросил, у него мотоцикл с люлькой), сняла деньги со сберкнижки, которые откладывала на похороны, и купила себе, не поверите, ноутбук!
А деда Дима договорился в сельсовете, и бабушке в избушку провели безлимитный Интернет — как ударнику коммунистического труда. Она сорок пять лет в колхозе служила агрономом-селекционером верой и правдой. Вывела новый сорт сибирских огурцов, морозостойких, с пупырышками. Такой огурец в минус тридцать пять начинает почковаться и даёт такой приятный цвет, изумрудный. Её потом звали в Москву, в Институт общей генетики имени Вавилова. Но баба Моня из Калистратихи ни-ни. В Барнауле и то была всего один раз — на мой день рождения.
— Баб, мы скоро придём? — спрашиваю. — Ноги промокли.
— Надо было дедовы валенки надевать. Ишь, в кроссовки вырядился!
— Они японские, непромокаемые.
— Непромокаемые, а промокли. Ширпотреб тайваньский!
Баба Моня быстро освоила Интернет. Её кругозор рос на глазах. Как на дрожжах — даже удивительно. Недаром она ночи напролёт штудировала Всемирную паутину. Особенно интересовала её Япония.
— Эх, жаль, нет у меня клавиатуры с иероглифами! — вздыхала бабушка. — Там в ихних японских блогах о таких делах пишут, о таких делах! На днях селекционеры из префектуры Айти вырастили кубические дыни!
Мы с Бабакой только диву давались. Приехали в Калистратиху проникнуться деревенским укладом, приобщиться к фольклору, так сказать, а на деле выходит наоборот. Бабу Моню сбили с панталыку, сделали интернет-зависимой.
Она вдруг как закричит страшным шёпотом:
— Стой, раз-два!
Мы с Бабакой встали как вкопанные, на бабушку глядим, вокруг озираемся.
— Вы только тихо, не спугните их, — шепчет.
— Кого, бабушка?
— Их, родименьких, подсугробничков!
— Подсугробничков?
— Они ещё совсем маленькие, боязливые, но шустрые бестии. На солнышко вылезут спинки погреть, шёрстку проветрить.
Мне вдруг стало страшно за бабушку. Может, думаю, пересидела в Интернете? Может, у неё развились галлюцинации на фоне глазного перенапряжения? Или с непривычки?
Но потом я выглянул из-за куста на полянку и вижу: правда, из-под снега торчат какие-то нежно-фиолетовые мохнатые цветочки.
На подснежники вроде похожи, только шевелятся. Ничего себе!
Тут они нас с бабой Моней заприметили. Листиками замахали, улыбаются во весь рот — зовут к себе.
— Я тут постою, — говорю.
Я что-то застеснялся.
— Пойдём, неудобно. — Бабака тянет меня за рукав.
А баба Моня среди этих подсугробников сама прямо расцвела вся. К каждому персонально подходит, гладит по головке, сухарик в лапку суёт, словечко доброе шепчет. И Бабака не отстаёт от неё в дарёном фиолетовом пальто.
А подсугробники-то, подсугробники! Как увидали пальто, все к Бабаке кинулись вприпрыжку. Влезли ей на нос, свесили стебельки, за ушами чешут Бабаку, а та и рада-радешенька! Прямо какой-то детсад устроили.
— Бабушка, — говорю, — как ты всё это объяснишь?
— Я, Костик, дай Бог памяти, ещё в 56-м году вывела подсугробники на производственной базе нашего колхоза. Шесть лет с ними, родимыми, маялась, ото всех держала в секрете. Мы ж тогда морозостойкие сорта кукурузы и брюквы выводили. А цветы в ту лихую годину не нужны были никому. Кроме меня. А они погляди какие хорошенькие! А сообразительные! Всю таблицу умножения наизусть знают и кириллический алфавит.
— Матрёна Степановна, вы гений! — кричит Бабака. — Вам в Москву с ними надо! Или нет, лучше сразу в Нобелевский комитет, в Осло!
— Кому я нужна в Москве со своими подсугробниками? — отмахивается бабушка. — Вот в Интернете пишут: экономический кризис бушует в стране. Хотя… есть у меня одна мечта-идея с недавних пор…
Набрали мы подсугробников в лукошко до краешков, вернее, это они к нам сами туда понапрыгали. Молочка им парного захотелось попить, видите ли! И домой повернули, в деревню. А по пути ещё заглянули на плантацию друздей. Но они все в спячке теперь, один только шатун какой-то из-под снега высунулся поздороваться. Шляпка у него шоколадная, лакированная, сверху сосновая иголка прилипла, а сам заспанный.