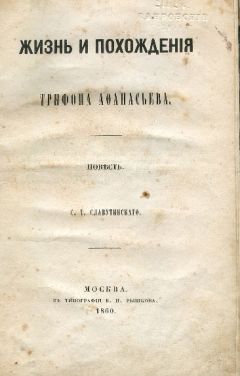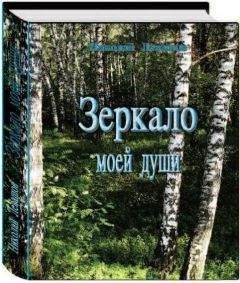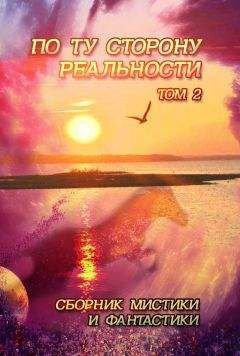Степан Славутинский - Жизнь и похождения Трифона Афанасьева
VIII
Трифон перенес страшные впечатления всех этих событий, но на некоторое время был поражен такой мрачной тоскою, что нельзя было видеть его без содрогания. Месяца два прохворал он в тяжкой болезни; крепкое, жилистое сложение его было надорвано душевным страданием. Однако все вынесла его натура. Через каких-нибудь полгода сгладились на нем наружные следы душевных мучений. Только для глубоко наблюдательного взора могли быть заметными резкие перемены в характере Трифона.
Он сделался чрезвычайно неровен во всех своих действиях: иногда слезно жаловался всякому на свои несчастья, иной же раз, весь погруженный в мрачное уныние, словечка не хотел вымолвить ни с кем и ни об чем. На базары он перестал совсем почти ездить, — разве-разве понадобится купить для домашнего дела соли или другое что нужное; к соседям перестал тоже захаживать; на праздники никуда уже не ходил и к себе не пускал; на мирские сходки сначала еще являлся, но когда спрашивали его о чем-нибудь, — бывало, рукой махнет да ответит: "А что тут?.. как мир хочет!.. мое дело сторона… изба моя с краю, ничего не знаю…"
Когда же случалось ему услыхать на оходкс про какое-нибудь несчастие в соседстве, — например, про пожар, — он не пpиeoeднялея к общему хору сожалений, а всегда коротко возражал:
— Ну, сгорели так сгорели… опять выстроятся… Дело это поправное…
— Вишь ты, брат, как поговариваешь!.. А у тебя случися…
— Всего случалось, — отвечал, бывало, тихим голосом Трифон.
И, сказав слова эти, он уходил домой, повесив голову и ни на кого не глядя.
Наконец, даже по позывам стариков, он чрезвычайно редко стал являться на сходки: стал он все дома заниматься каким-нибудь пустым делом: то колышки какие-то, бывало, завостривает, то хворост обрубает для топки печи, то разберет какой-нибудь старенький хлевушок на дворе, и разберет-то его без надобности, да потом опять собирает…
Скоро мужики пересветовские начали как-то дичиться Трифона, избегали всяких разговоров с ним, перестали звать его не только на мирские сходки, но даже на крестины, на свадьбы и на другие пирушки.
— Словно какой "оглашенный" стал! — говорили они, рассуждая иной раз о Трифоне, — никуда, вишь, не ходит и в церкви-то редко бывает… Допрежь того был совсем другой человек: делом все хотел заниматься…
— В руку, видишь, все ему не шло.
— Да больно уж затейлив был!.. оно бы попроще… ан и тово…
— И на базары частехонько езжал.
— А помнишь? с Саввушкой-то какие приятели были!
— Как же! как же!.. Да, малой! поди-кось, пропал вот Саввушка, — инда ни слуху, ни духу…
— Да ведь, кажись, перед самой-то смертью Афимьи был Саввушка у нас в деревне! Сказывают, — у Арины с Васькой Лимавским пьянствовал, а вот опосля того словно сквозь землю провалился.
— Поспрошать бы у Трифона: не заходил ли к нему в те поры!.. А то не ночевал ли?
— Эва! что его спрашивать? вишь, какой он стал!.. словно колдун настоящий!
— А и то молвить: кому нужда-то до Саввушки?.. Ни роду, ни племени у него. Помер, чай, спьяну, — и приняла его просто-напросто мать сыра земля…
О Савелье Кондратьиче, точно, не было никаких расспросов и разведываний. Он был безродный гулящий человек — и никто не заботился о нем. Лишь один Трифон часто о нем думывал.
В странной, но крепкой связи представлялись ему смерть и матери и смерть Саввушки; тайные похороны его в реке, с камнем на шее, и трехдневное, страшное боренье со смертью старухи Афимьи; какой-то тяжкий стон в кустах после похорон Саввушки и неумиримая воля матери, ее последнее слово: "прочь!.."
При этих воспоминаниях, постоянно, чуть не каждую минуту грызших его, Трифон доходил иногда до такого отчаяния, что готов бывал наложить на себя руки — и наложил бы, может статься, коли б не привязывала его к жизни какая-то горькая жалость, какая-то слепая любовь к полоумному Мишутке. В минуты страшной тоски вспоминал он всегда не про жалкую калеку дочь свою, не про бедных маленьких внучек, а именно про Мишутку, который, однако, не показывал ему нисколько привязанности.
И с каждым днем росло также ожесточение Трифона. Он совсем удалился от знакомых своих, приятелей, родных. Стало невыносимо ему сообщество с людьми; невзлюбил он людей от всей души…
Раз как-то по зиме был он на базаре в Боровом. Искупив себе кой-чего для дома, а кой-чего нужного и не купив по недостаче денег, он возвращался домой, полегоньку плетясь на своей тощей лошаденке. Ехал он и думал все о том, к чему душа его обращалась ежечасно, — думал о сыне, безвременно умершем, о матери, не простившей его перед концом, о Саввушке, без покаяния погибшем и похороненном в реке, может быть заживо…
Вдруг обогнал его вскачь, зацепившись за его сани и чуть не опрокинув их, крестьянин из деревни Загорья, Ларион Максимов, известный пьяница и приятель в прежнее время Саввушки.
— Эй, Кузька?.. разбойник! — закричал Ларион:- ты, брат, тово… право, брат!.. Вот вместе бы… ну, я маненько сосну… а ты уж тово…
Ларион тотчас повалился на сено в санях и крепко заснул; слышно было, как он всхрапывал. Лошадь его тихо шла по-дороге, за нею брела и Трифонова лошаденка.
И вдруг овладело Трифоном томительное чувство, до сих пор ему незнакомое; он весь дрожал, охваченный мрачным, тоскливым беспокойством: в голове его шумело, как от сильного угара. Какой-то странный голос стал нашептывать ему странные речи. И невольно с тяжким замиранием сердца Трифон прислушивался к этим темным речам.
"Что ж ты!.. чего смотришь, об чем еще думаешь?.. — говорил голос: — он не узнал тебя, Кузькой назвал!.. Никого нет ни впереди, ни назади… снег порошит, глянь, как стемнело, — никто не увидит!.. Смотри-кось: тулуп-то новехонькой… один рукав свесился, волочится по снегу… а вон и мешки… никто не увидит!.. не бойся!.. скорей только!.. скорей!.."
Сам не помня уже себя, вылез он из саней своих, подошел к саням Ларионовым, взял тулуп, взял один из мешков… и, задыхаясь от страшного волнения, кинулся в сани, изо всей мочи приударил свою клячонку и ускакал стремглав домой.
Только подъезжая к Пересветову, опомнился он несколько и сдержал лошадь. Он чувствовал страшную головную боль и совершенное изнеможение во всем теле.
Между тем совсем уже смерклось; снег вялил хлопьями. Темно было на улице, когда Трифон взъехал к себе на двор. С величайшею заботливостью зарыл он в сено тулуп и мешок Ларионовы и не допустил невестку взять из саней мелкие свои покупки. Ночью он вышел потихоньку из избы и зарыл украденные вещи ва погреб и це. Всю эту ночь он не спал и несколько раз выходил на двор и на улицу чего-то посмотреть, чего-то послушать…
Но этот ребячий страх, эта тревога души были не надолго.
С того разу стало манить Трифона беспрестанно к воровству; он быстро освоился с новым ремеслом своим и начал красть смело, дерзко, ничем не стесняясь, ничего как будто не страшась. С особенным, порывистым ожесточением предавался он пороку. Правда, рядом с этим ожесточением, делавшим его опасным врягом обществу, жила в нем неумолчная совесть. Ничем не мог он заглушить ее: голос ее часто терзал душу его страшными мучениями; но на беду ему уже недоставало сил духовных для того, чтобы побороть свое ожесточение. Горемычный старик видел гибель свою — и легко поддавался ей.
Вокруг себя он не мог найти помощь для восстания…
"Она прокляла меня, — думал он все о своей матери: — не замолишь… на том свете беспременно огонь вечный!.. Ох! доля моя пропащая!.. А дети-то?.. Мишутка!.. и они, может, погибнут… Бедность, нужда!.. Дай так еще поработаю, — хочу покудова пожить вольно!.. Они все супротив меня… так я сам!.."
Темная мысль о мщении людям за какую-то страшную вину их против него безотвязно вертелась в голове Трифона и непрестанно подстрекала его на преступления. Он воровал, несчастный, не из мелкой корысти, а под влиянием страстною, жгучего желания делать зло.
Скоро в Пересветове заметили, чем стал промышлять Трифон, и все диву дались.
— Эка оказия! — говорили пересветовцы. — Вишь ты: на старости-то вот и воровать пустился!
— Диковина, малой!..
— Чего тут диковина!.. ведь, чай, знаешь, каков человек? мать при смерти прокляла!..
— А и то: ведь он, разбойник, бивал ее, сердешную.
— Слышь, ребята: как бы и у нас не стал приворовывать?.. Что тогда делать-то?..
— Да что?.. А барину можно…
— Эка!.. барину!.. ну, что он сделает?..
— Авось, малой, и не станет нас забиждать…
Пересветовцы после такого совещания стали обходиться с Трифоном очень осторожно. Встречаясь с ним, они не очень-то пускались в разговоры, зато всегда ласково кланялись, по имени и отчеству называли. Бабы же боялись его как огня. Они колдуном его считали и рассказывали про него странные веши: будто, например, в дому его по ночам соседи слыхали громкие голоса, а в полуночную пору видали самого Трифона бродящим вокруг двора. Грозной таинственностью стала облекаться в глазах народа личность Трифона. И он сам старался усилить в народе боязнь к себе, признаки которой подметил. В позднее ночное время бродил он иногда вокруг двора своего, пугая собак и заставляя их выть.