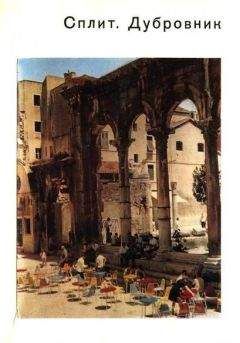Бранка Юрца - Родишься только раз
Дорогу к тюрьме я измерила бессчетное число раз. В тюрьму, имевшую свою пекарню, мы с братом ходили за хлебом: там он был дешевле, чем в городе. Здесь же мы покупали и молоко — ведь тюрьма держала своих коров, и молоко нам тоже обходилось дешевле.
Мы с братом неохотно ходили в тюрьму и всякий раз жестоко спорили из-за того, кому идти. Я говорила: „Пусть идет Кирилл“, а Кирилл кивал на меня. Мама, обычно выступавшая в роли справедливого судьи, пыталась решить дело раз и навсегда, однако ей не удалось установить очередность, и мы по-прежнему продолжали ссориться. Нередко наши споры завершались дракой, и все же, когда я шла по широкой дороге к воротам тюрьмы, этот заколдованный тюремный замок вновь и вновь будоражил мое воображение. По пути мне встречались надзиратели, уже кончившие свое дежурство, а также и те, кто приходил им на смену. Одни шли пешком, другие ехали на велосипедах.
Много лет спустя, пролетая над Марибором на самолете, я разглядела, что тюрьма построена в форме звезды, с многочисленными дворами без единой травинки, без деревца, обнесенными высокой цементной стеной, которую не одолеть тоскующим по свободе арестантам.
Иногда у ворот тюрьмы дежурил мой отец. Если по ту сторону ворот звонил звонок, он спускался по ступенькам к встроенным в стену массивным дубовым воротам. Правда, сами ворота редко приходилось открывать, но в них была дверь, через которую отец впускал и выпускал надзирателей и арестантов.
Со связкой ключей подходил он к двери и смотрел в проделанное в ней круглое смотровое оконце. За дверью, в тюремном дворе, стояли надзиратель и арестант, желавшие выйти оттуда. Мой отец открывал им дверь, а потом снова запирал ее.
Я стояла на ступеньках у стены и разинув рот смотрела на арестантов, которые проходили через эту вечно запертую дверь. При виде меня в глазах их вспыхивали живые огоньки, а лица озарялись светлой, радостной улыбкой. Заговаривать с посторонними им возбранялось.
Отец уходил из дома на целые сутки.
За обедом он не разрешал нам разговаривать. Хлебали мы, к примеру, горячую минештру[4] с кислой капустой. Так забавно было втягивать в себя длинные капустные змейки! Каждый втягивал ее на свои лад, и не было более веселой музыки, чем это наше чавканье за обедом. Мы с братом переглядывались. А смех уже стоял в глазах, за сомкнутыми губами и наконец прорывался наружу. Тут уж ничего нельзя было поделать. Отец бросал на нас гневный взгляд. На мгновение мы утихали, застывали в неподвижности, словно околдованные, а потом начинали смеяться еще громче и заливистее. Порой этот гневный взгляд обращался на нас лишь за то, что мы хохотали без всякой причины.
Навеки запомнила я, как отец собирался на службу.
Я поднималась чуть свет и сразу бежала на кухню. Там было тепло, потому что мама уже затопила плиту. А еще там приятно пахло ячменным кофе, которым отец запивал хлеб.
Я забиралась на сундук для топлива, стоявший у самой плиты. Мама давала мне шерстяной платок со словами: „Накинь на плечи, не то простудишься!“
Я знала, что ей сейчас не до меня, что отец уходит на службу и пока он не уйдет, я здесь пустое место. Молча закутавшись в платок и поджав под себя ноги, я наблюдала за этим давно установившимся ритуалом сборов.
— Ты чего не спишь? — не глядя, спрашивал отец.
— Выспалась уже! — отвечала за меня мама. — Слава богу, будить нс надо.
Я сидела тихо, как мышка.
Время бежало удивительно быстро. Отец не мог опаздывать, и потому его персона была в центре маминого внимания.
И этот утренний час папа казался мне особенно большим — ведь он заполнял собой всю кухню.
Усы под носом стоят торчком. Клочковатые брови, точно грозовые тучи, нависли над карими глазами, холодно и отчужденно смотревшими на мир.
— Налей мне воды! — говорит отец.
Это относится к маме. Она покорно берет тазик, идет в коридор и наливает в него холодной воды.
Отец ждет ее с явным нетерпением.
Мама ставит тазик на табуретку, и отец, склонившись над ним, начинает умываться. Он шумно зачерпывает в пригоршни воды и с силой плещет ее в лицо. Брызги разлетаются по всей кухне.
— Ты бы поаккуратней, не поливай пол! — тихо говорит мама.
Но было б куда лучше, если б она совсем ничего не говорила, ибо в ответ на ее робкую просьбу отец плещет еще сильнее, и по полу текут уже целые потоки.
— По крайней мере, не будешь сидеть сложа руки!
— Ну и злой у тебя язык!
— Дай-ка полотенце!
Мама тут же приносит полотенце, отец вытирает лицо и руки и бросает полотенце на спинку стула.
„Неужели это мой папа?“ — думаю я.
Потом он облачается в форму. Все в тюрьме носили форму. Арестанты — одну, надзиратели — другую. И тех и других можно было узнать по одежде.
Отец надевает грубошерстные брюки какого-то неопределенного бурого цвета и туго затягивает их кожаным ремнем, тем самым, которым он порол нас, когда мы доводили его до белого каления.
Папа застегивает ремень, а мама уже держит наготове китель, такой обшарпанный, точно его только что сняли с пугала. Отец засовывает руки в рукава сердито, рывками, будто насаживает их на вилы. Затем застегивает пуговицы, начиная снизу. Наконец доходит очередь до твердого стоячего воротника.
Теперь от отца тянет холодом. В мгновение ока он становится совсем чужим — хоть бы один-единственный взгляд в мою сторону.
— Почисть меня! — приказывает он маме.
Мама уже бежит за щеткой. Отец стоит посреди кухни и поворачивается вокруг своей оси. Мама чистит его спереди и сзади, сверху вниз и снизу вверх. Но вот сборы подходят к концу, и я с облегчением вздыхаю.
Мама снимает с вешалки тяжеленную шинель. Отец, не глядя, отводит руки назад, но они не попадают в рукава, и он сварливо кричит:
— Подними повыше!
Мама молча прислуживает отцу. Она застегивает ему шинель, и могучий разгневанный бог уходит!
Мама открывает дверь. Отец насаживает на голову форменную фуражку, напоминавшую перевернутый вверх дном цветочный горшок, только со щитком. Ужасно смешная была фуражка у моего отца.
Отец уходит, даже не затворив за собой дверь. Мама провожает его до лестницы. Прислонившись к перилам, она спрашивает:
— Когда придешь?
Ответа нет.
Я слышала шум его тяжелых шагов по нашей крутой деревянной лестнице и с нетерпением ждала, когда мама вернется в кухню и займется мною. Бывало, я так и прильну к ней всем телом.
— Бедняжечка моя, — говорит мама, — как ты озябла. Ну, теперь твоя очередь. Давай одеваться!
Я одевалась на большом кухонном сундуке, и не было для меня тогда ничего более приятного.
Черепки! На полу разбитая дощечка
Приближалось начало учебного года.
С радостным волнением ждала я того дня, когда первый раз пойду в школу. Но вместе с радостью во мне жил и страх.
Я очень боялась палки, которой учитель стращал учеников. И прутьев, которыми он бил школьников по рукам. И страшного обычая дергать провинившихся школяров за волосы.
Брат, проучившийся в школе целых два года, много рассказывал о школьных нравах. Но мое желание учиться и хоть чему-нибудь научиться было так велико, что, несмотря на все эти страсти, я не могла дождаться начала занятий. Накануне я почти не спала.
От брата перешел ко мне школьный ранец. Ему купили отличный портфель из свиной кожи. С таким портфелем и сам он казался наиотличнейшим учеником.
Дощечка, на которой писали в то время первоклассники, не досталась мне в наследство по той простой причине, что она давно была разбита. Тот день, когда мы с мамой отправились в писчебумажный магазин покупать грифельную доску, был для меня великим праздником.
Мы купили прекрасную школьную дощечку и грифель.
Одна сторона черной грифельной доски была разлинована. Посреди рамки, в которую была вправлена доска, висела на веревочке губка.
— Вот тебе доска, грифель и губка, — сказала мама. — Всю науку сможешь написать, стереть и снова написать на этой доске. Береги ее! Уронишь — останутся одни черепки!
Наконец наступил день, когда мама первый раз повела меня в школу. Положив дощечку и грифель в ранец, я водрузила его на спину, так что ни с дощечкой, ни с перешедшим мне по наследству ранцем не могло случиться ничего худого.
В школу мы пошли вовремя. Об этом позаботилась мама. Мы направлялись в город, то есть в старый город, расположившийся на другом берегу Дравы под Пирамидой и Кальварией.
Я шагала рядом с мамой по Железнодорожной улице.
Навстречу нам попалась старая Першониха, наша соседка, гладильщица. Целыми днями она гладила белье у мариборских господ. Вечером, возвратившись домой, она обычно звала нас к себе и угощала печеньем, перепадавшим ей от господ.
— О, да ты уже школьница! — воскликнула Першониха, взглянув на мой ранец. — И как выросла!