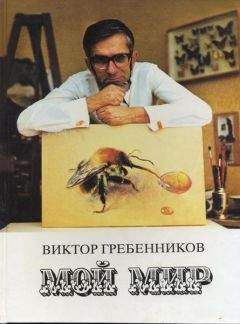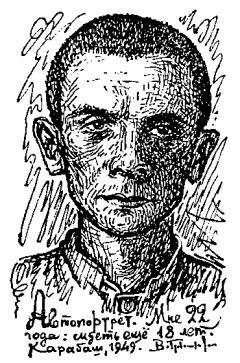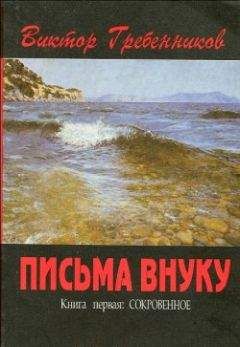Сергей Гребенников - «Отчаянный», отчаливай!
Но когда я, наконец, перешел в 5-й класс, то явился в Дом пионеров и записался сразу в два кружка — в театральный и шахматный. Года через полтора я уже был старостой обоих кружков. В Доме пионеров все у меня уже были «свои ребята», а сам директор Сергей Капитонович, совершенно седой старичок, при встрече со мной поднимал руку и говорил: «Привет активу!»
Однажды на каком-то совещании ко мне подошел Кирилл Бобков — староста юннатского кружка.
— А мы вчера профессора вышибли, — гордо сказал он.
— Какого профессора? Того, с бородкой? — Я вспомнил, как в юннатском кружке несколько дней назад читал лекцию профессор из Тимирязевской академии.
Кирилл расхохотался.
— Да нет! Нашего Профессора… Витьку Егорова. Ты его не знаешь? Он у нас в школе учится… Представляешь, записался он к нам в кружок и говорит: «Есть у меня одна идея!» В общем потребовал выдать ему пятьдесят кустиков помидорной рассады. Ну, дали ему… А вчера выясняется, что все пятьдесят кустов погибли. Оказывается, он у себя дома, на балконе, вздумал помидоры скрещивать… с кактусом, представляешь? А у нас теперь рассады для опытной делянки не хватает.
…На следующий день, как раз в тот момент, когда Лева Коган делал мне шах своим конем, открылась дверь, и на пороге я увидел белобрысого мальчугана, курносого, с совершенно белыми бровями и большими оттопыренными красными ушами, которые почему-то напомнили мне задние фары у легкового автомобиля.
— Я хочу к вам в кружок записаться, можно? — весело спросил вошедший.
— А, Профессор! Валяй заходи! — раздалось с заднего столика.
Я встал и, как и подобает старосте, спросил:
— А чем ты, собственно, хочешь заниматься — шахматами или шашками?
— Пожалуй, шашками, — ответил Профессор и, нагнувшись к моему уху, прошептал:
— За каким столиком я бы мог потренироваться?
Я указал ему на один из столиков с нарисованной на нем шахматной доской, а сам стал обдумывать, как бы моему королю все-таки спастись от ехидного Левкиного коня.
…Мы почти не замечали присутствия Профессора в нашем кружке. Я даже удивлялся — за что его так прозвали? Ничего профессорского не было в его облике. Ни ученого вида, ни толстого, разбухшего от бумаг портфеля, ни очков. На занятия наш Профессор приходил незаметно, бочком пробирался к своему столику и начинал решать шашечные этюды. Он никогда не теребил никого из нас вопросами, не хватал за рукав, предлагая сыграть «еще партию». Часто он вообще сидел молча, уставившись в одну точку на шахматной доске. Могло даже показаться, что он спит. Но губы его изредка шевелились, словно он повторяет какие-то формулы, нос морщился, а иногда в такие минуты он почему-то даже потел. Тогда он доставал из кармана огромный красный платок и вытирал им лоб. У нас у всех были обыкновенные белые платки, а у него красный…
Перед соревнованиями Профессор вдруг обратился ко мне со странной просьбой:
— Можно, я свой столик до завтра домой возьму? — Он помолчал и добавил: — Понимаешь, нельзя успокаиваться на достигнутом, — и как-то беспомощно развел руками.
— А в чем дело? Зачем тебе столик? — спросил я.
— Да понимаешь… Есть у меня одна идея…
Я насторожился. Я уже слышал, чем обычно кончаются его «идеи». Но Профессор так жалобно посмотрел на меня, сморщил нос, и веселые складки, как солнечные зайчики, побежали у него по лбу и по носу.
— Ладно, бери! — сказал я. — Только чтоб завтра все было в порядке.
— Все, все будет в порядке! — с готовностью пообещал Профессор и пожал мне руку своей потной от восторга ладошкой.
Назавтра все действительно оказалось в порядке. Сияющий Профессор сидел за своим столиком против какого-то испуганного пятиклассника. Включили часы, соревнования начались…
Вдруг в самом начале партии у Профессора под столом что-то затрещало. Пятиклассник решил, что это психическая атака, и задрожал от страха. Побледнев, он хотел было передвинуть свою шашку, но она не поддавалась.
Игра на других столиках приостановилась.
Профессор (я увидел, как кончик носа у него вспотел) достал из кармана свой красный носовой платок, потом полез под стол, что-то щелкнуло, и вдруг все шашки, как сумасшедшие, стали прыгать над доской, сталкиваясь в воздухе и сбивая друг друга.
Шашки казались маленькими разъяренными быками, беснующимися перед алым плащом испанского тореро, когда Профессор пытался поймать их и накрыть своим носовым платком.
Все бросились посмотреть на это представление. Виктор беспомощно разводил руками и говорил:
— Что-то в схеме… понимаете. Она должна была сработать. Двадцать один вариант победы… Высчитано по этюднику… Сфера магнитного поля подвела…
Когда, наконец, Витьке удалось что-то отключить и на пол посыпались из-под «профессорского» стола какие-то жалкие пружинки, а прыгающие шашки успокоились и в беспорядке лежали на доске, послышались голоса:
— Он сорвал нам соревнования…
— Я забыл записать свой ударный ход…
— Моя ладья стояла на белом поле, а теперь…
— Он разрушил все мои комбинации…
…Короче говоря, за срыв соревнований и порчу инвентаря мы выгнали Профессора из кружка.
Выгнали, а вскоре я узнал, что Витька появился в зоологическом кружке и там им не нарадуются. Оказывается, Профессор изобрел автоматическую кормушку для кроликов, и теперь животные получают пищу строго по расписанию и точно по норме. А самого Профессора я часто видел с огромным белым кроликом на руках. «Это мой Косинус», — говорил Профессор и ласково гладил кролика за ушами.
Однажды я увидел Профессора в вестибюле Дома пионеров. Он сидел около колонны, обхватив голову руками. И мне даже из-за двери было видно, как вспотел его нос, что было признаком величайшего душевного напряжения.
— Что, Профессор, есть идея? — приветствовал я его.
Виктор опустил руки, отсутствующим взглядом посмотрел на меня, и я понял, что ошибся. По носу Профессора текли слезы.
— Что с тобой?
— Косинус погиб, — ответил он, всхлипывая.
— Как — погиб?
— Понимаешь, я решил кормушку усовершенствовать. Косинус мордочку сунул, ну, а пружина сорвалась, и…
Я представил себе, как идет теперь Витька в зоологический кабинет, а в руках у него его любимый погибший Косинус, и сказал:
— Знаешь что, ты не расстраивайся, переходи к нам, в театральный, у нас как раз в «Горе от ума» некому Петрушку с разодранным локтем играть…
Так Профессор стал артистом. Внешне он очень походил на фамусовского слугу. А так как слов в этой роли говорить не надо было, исполнение Виктора не вызывало никаких претензий.
По совместительству ему поручили делать шумы. В первом акте, например, ему надо было перед приездом Чацкого изобразить при помощи двух колотушек звук подъезжающей кареты. И вот за несколько дней до премьеры Виктор отвел меня в сторону и конфиденциально поведал:
— Вообще-то есть у меня одна идея. Насчет шумов. Нельзя успокаиваться на достигнутом.
Я вздрогнул.
— Нет, лучше не надо, — твердо сказал я, — все твои идеи граничат с катастрофой.
Однако Виктор меня не послушался и на генеральную репетицию принес какой-то ящик, напоминающий шарманку, нажал на кнопку, и из ящика послышался настоящий конский топот и скрип подъезжающей кареты.
Все были в восторге.
На первом спектакле, когда я в костюме Чацкого стоял за кулисами и в сотый раз повторял шепотом: «Чуть свет уж на ногах… И я у ваших ног!», Витька включил свою шарманку и вместо приближающегося топота копыт из нее послышалось шипенье, похожее на урчанье в животе у бегемота. Потом что-то взорвалось у него в ящике, и повалил дым, густой и ядовитый. Лена Косичкина, играющая Софью, чихнула раз, другой, заревела и выскочила за кулисы.
— Ты, ты! — бросилась она к Витьке, который пытался под Петрушкин халат запихнуть злосчастное «изобретение». — Я так переживала. А ты сорвал всю сцену!
И она зарыдала на плече у нашего директора Сергея Капитоновича.
На этот раз и я разозлился на Витьку страшно. Ведь я уже готов был выскочить на сцену с развевающимся шарфом и поразить зрителей вдохновенным чтением грибоедовских стихов.
— Эх, ты! — подскочил я к Витьке, хотел сказать ему что-нибудь безумно обидное, но, ничего не придумав, с ненавистью прошипел по складам: — Про-фес-сор!
Спектакль был сорван.
Профессора отчислили из этого, четвертого по счету, кружка.
…Домой мы возвращались вместе.
— Теперь все! — сказал мне Виктор. — Больше… не переступлю порог этого дома. Не везет мне здесь, — с гамлетовским выражением на лице произнес он, и его торчащие уши еще больше покраснели.
Каково же было мое удивление, когда Сергей Капитонович через несколько дней сказал мне: