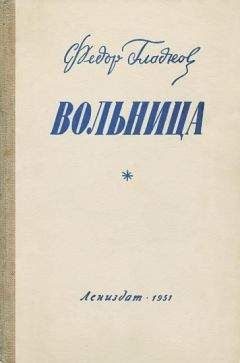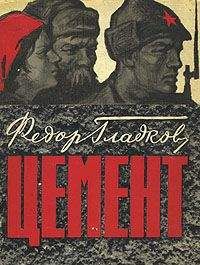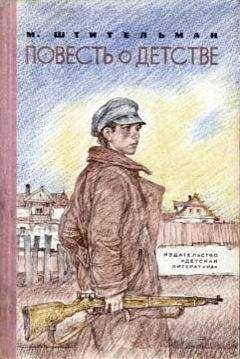Федор Гладков - Повесть о детстве
Кто-то не утерпел и с злобным смехом перебил первого
- Они на мир-то - с матюками да нагайками, а перед богатыми - горницу нараспашку...
И еше кто-то добавил:
- Нам-то ближе тюрьма, а им - золота мошнаТолпа заволновалась, заворошилась и опять загалдела Микитушка сурово и обличительно оглядел всех и поднял руку. Толпа опять смолкла и с нетерпеливым ожиданием уставилась на него.
- А ежели, мужики, барин нас отрикет и богатством Мктрия и лжой его прельстится... - Он замолчал и с пытливым вопросом в глазах медленно оглядел толпу. - Готовы ли вы, братья, дружно правды добиваться?.. Ежели нет у вас веры да ежели отрекаться будете, как Петр от Христа, лучше по домам расходитесь...
- Готовы, Микита Вуколыч! Все пойдем.
- Знамо, пойдем! Спротъ мира-то никакой барин не устоит.
Среди гвалта надрывался голос Ваньки Юлёнкова:
- Все едино, мужики... миром весь свет держится...
С осьмины и лихая беда не столкнет...
Отец стоял поодаль с Миколаем Подгорновым, бывалым мужиком, и о чем-то с ним разговаривал, неодобрительно поглядывая на толпу. Миколай, стриженный под польку, в брюках и пиджаке, хотя и босой, смотрел на мужиков с недоверием.
Микптушха угомонил голпу и решительно, сурово объявил:
- Ежели не отступи гесь ца ежели барин миру откажет, всем выезжать с сохами и запахивать барскую землю. Всем миром, на всем угодье... И так... без межей бы... обчей помочью...
Кто-то ехидно перебил его:
- Да ведь без межей-го... да общей помочью... без порток останешься... Чай, мы не святые...
Микитушка не ответил на выкрик и закончил с торжественной строгостью:
- А сейчас пойдем все до единого, от малого до старого. Я вожаком с вами псйду, а рядом со мной размилый и неотступный Петруха Стоднев и Фома Селиверстыч.
С палкой в руке, с высоко поднятой головой Микитушка вышел из толпы, а по обе стороны от него Петруха Стоднев и дедушка. Как всегда, Петруха одет был пристойно - в сапогах, в чистой красной рубахе, подпоясанной ремнем, и в картузе. Лицо его было озабоченно, зздумчяво, бледно.
Дедушка, тоже с палкой в руке, тоже в сапогах, шел истово, покорно, опустив брови на глаза. И по лицу его видно было, что он поневоле выполняет згу повинность, хотя и доволен честью, которую оказал ему мнр. Впереди них вышагивал, размахивая руками, Кузярь. Мне тоже хотелось подбежать и пойти рядом с ним, но я не мог побороть страха перед дедушкой.
Вся толпа потянулась за Микитушкой, Петрухой и дедом. Лохматые, бородатые, в домотканых рубахах и портках, мужики и парни длинной гурьбой пошли мимо нашего прясла, вниз, к ветлам. По этой дороге, самой короткой, бабы ходили за водой к колодцу. За колодцем через речку были перекинуты жерди. Но речка была мелкая, прозрачная, с песчаным дном, а на перекатах в разноцветных камешках, и люди переходили ее вброд.
За пряслом стояли бабушка с матерью и Катя. Когда ч вместе с шайкой парнишек хотел побежать сбоку толпы, мать тревожно позвала меня, а бабушка простонала:
- Не ходи... и ке думай бежать с ними на барский-то!
Там собаками затравят. Еще не знай чего будет. Может, и лиха беда случится.
Мать так умоляюще и боязливо смотрела на меня своими большими страдальческими глазами, что я от жалости к ней не мог двинуться с места.
Когда передние переходили речку, задние только еще подходили к спуску. Но ушли не все: кое-кто из мужиков, опасливо оглядываясь, пошел обратно по луке. У пожарной вместе с Мосеем стояли два высоких мужика: старший сын Мосея Павлуха и сотский Гришка Шустов. Павлуха стоял угрюмо и молча, а сотский грозил кулаком вслед толпе и матерно ругался:
- Я вам покажу, елёха-воха! Ишь бунтовать вздумали...
Видал? Петруха-то Стоднев - в вожаках вместе с Микитой.
Ну, хоть Микита-то безумный, елёха-воха. А Петруха - что? Мстит брату-то. Сидел в остроге и еще насидится.
В моем участке - да бунт! Мысленное ли дело!
Он подхватил писаря под руку, и они широко зашагали по луке на длинный порядок.
Мы долго стояли у прясла и смотрели, как толпа поднималась на барскую гору, как по одному, по два отставали мужики от хвоста толпы и расходились в стороны. Но гурьба людей все-таки была большой и плотной. Следили мы за ней до тех пор, пока она не скрылась за ребром крутого длинного обрыва на той стороне.
Катя веселыми глазами провожала мужиков и смеялась:
- В кои-то веки взялись за ум наши вахлаки! Я бы тоже пошла впереди. Хуже я Юлёнкова, что ли? А нас, баб, и за людей не считают. Какой бесстрашный Микитушка-то! За правду он и жизни не пожалеет. А Пете Стодневу и цены нет.
- Ох, дураки, дураки!.. - приговаривала бабушка со слезами на глазах. Куда пошли, зачем пошли!.. Рази можно спроть барина свару заводить? Ведь в бараний рог согнет... С сильным не борись, с богатым не судись... И чего это отец-то наш ввязался на свою голову?..
Катя смеялась.
- Тятенька никогда не спустит, ежели кусок урвать можно. А за землю он и голову заложит.
Мать оживилась и стала торопливо рассказывать, как они вместе с бабушкой Натальей странницами попали в село, охваченное бунгом, и едва унесли ноги.
Мне было обидно, что меня не пустили с мужиками на барский двор, и я мучился от зависти к Кузярю и другим парнишкам. Почему Кузярь пользуется свободой и делает, что хочет, а я в неволе и должен делать, что мне велят? Кузярь и дома держит себя так же вольно и независимо, как и на улице: отец его - Кузьма, которого все звали КузяМазя, был смирный, молчаливый, ушибленный бедностью мужик. Почему-то у него постоянно дрожали руки, и он как будто боялся взять топор, грабли, лопату. Сынишку он совсем не замечал, а когда встречался с ним, в глазах его вздрагивало удивление.
Мать, Груня, постоянно кричала и на сынишку, и на мужа, и на кур, и на все, что попадалось ей под ноги. Даже на улице, с коромыслом на плече, встречаясь с бабами, крикливо жаловалась на свою несчастную жизнь.
Но Кузярь чувствовал себя между отцом и матерью вольготно. На отца не обращал никакого внимания, а когда Кузя-Мазя просил его виноватым голосом помочь убраться по двору или поехать с ним на поле боронить, Кузярь ухмылялся и пренебрежительно отвечал:
- Сам поезжай, мне некогда. У меня своих дел по горло.
Отец вздыхал и больше не тревожил его. Мать набрасывалась и на отда, и на Кузяря.
- Какой ты отец? Тюря ты, а не отец. Распрокаянный парнишка! Вольник какой!
Кузярь смеялся и властно осаживал ее:
- Ну, чего раскудахталась? Без тебя не знаю, что мне делать! Чего нос суешь не в свои дела?
Мать хватала ухват, а он спокойно подходил к ней, отнимал ухват и ставил его в угол.
- Ты это чего с ухватом-то? Чай, я не чугун... И отколь ты такая несуразная?
Но иногда его охватывала бурная страсть с раннего утра до ночи возиться по хозяйству. Он и навоз чистил на дворе, и отвозил его на усадьбу, он и соху и борону чинил, постукивая топором и молотком, он и за водой на реку ездил, он и на поле чуть свет выезжал и работал там, хозяйственно покрикивая на отца. И отец подчинялся ему.
Однажды, когда я пришел к ним в избу, Кузярь заботливо хлопотал над матерью, которая лежала на самодельной кровати. Он был неузнаваемо серьезен и встретил меня равнодушно, как взрослый мужик. Груня стонала и плакала:
- Смертыныса моя пришла... Ванюшка, дорогое инка моя, мочи моей нет... Сгорело у меня все нутре. Ванюшка...
А он накладывал ей на живот горячее мокрое тряпье и строго успокаивал ее:
- А ты не кричи - всех касаток распугаешь. Маленькая ты, что ли? Я и без бабки Лущонки вылечу тебя. Впервой.
что ли? Вот прогрею брюхо-то - всю болезнь потом выгоню. У меня рука легкая.
- Ванюшка, - стонала Груня, - дорогонюшка мой!..
Чего бы я без тебя делала-то?.. Ангель ты мой хранитель!.
Он засмеялся, но как-то неслыханно нежно.
- Ну, сказала!.. Лежи и молчи. Вот шубы навалю на тебя - сразу отудобишь. Заснешь - и как рукой снимет.
Он положил на мать две шубы и войлок и приказал:
- Лежи и не шевелись. Спи и потей. Смотри не вставай... Слушайся! А то ругаться буду...
Через улицу он шел впереди меня и за амбарами вдруг обернулся.
- Уйди! Я не хочу играть... Зачем сейчас ко мне пришел? Мне сейчас все опостылело.
Его худое личико с выщелкнутыми скулами и подбородком дрожало от боли. Из глаз его текли крупные слезы.
Потом он уткнулся лицом в старую стену амбара и всхлипнул.
- Умрет она скоро... я знаю!.. У нее все нутре сгорело...
Я не мог вынести его слез и обнял его.
- Ты не плачь, - прошептал я сквозь слезы. - У меня тоже мамка больная... Мне тоже ее жалко...
Он обхватил мою шею рукой, и так долго простояли мы в обнимку, впервые связанные общей печалью...
С барского двора, приглушенный далью, донесся собачий разнолай. Лай этот свирепел все больше и больше и превратился в рычанье.
Бабушка вздыхала и горестно причитала:
- Изгрызут их собачищи-то... На барском дворе всегда они были злые, как волки. На моей памяти барин-то двоих затравил: мужика и дурочку. Мужика-то за то, что приказчику-немцу все нутре отбил. А избил-то за жену: приказчикто изнасильничал ее. А дурочка-то бродила, бродила, да в барские хоромы и повадилась. Притащится да сдуру там и пляшет и воет... Ну, баркн-то грозный был. Вытолкали ее на двор, а он кричит истошно: "Собаками ее затравить!